


Тревоги и сомнения празднеств
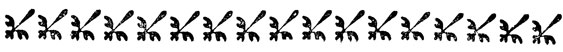
Давний вопрос, извечные сомнения историков - насколько внутренний мир людей прошлого близок и внятен нашему? И насколько отличен от него? Понял бы, оценил бы римский лирик Гай Валерий Катулл поэзию Александра Блока (который написал о нем блестящую статью)? Смог бы Лукреций Кар получить хотя бы самое смутное представление о квантовой механике? Взялся бы неандерталец, овладев компьютерной техникой, рассчитывать поворот великих сибирских рек "в сторону южную?"
Но вот персонажи этой хроники - ведь прошло всего лишь столетие с небольшим с тех пор, как они ходили на этой земле,- так ли уж они загадочны для нас? Думается - нет. И дело не в одной относительно скромной хронологии. Историческое время слоисто, сквозисто, скважинно; иной раз на коротком отрезке - породы свинцовой непроходимости, через которые ничего не прощупаешь. Здесь не так, мы хорошо видим и слышим русских людей второй революционной ситуации в стране, в общем, знаем, как они говорили, думали, шутили, любили, умирали. Тут близость несомненная, внутренняя, основанная на общности многих умственных и моральных норм. И все-таки... увидеть бы их въявь - длинноволосых, длиннобородых, в долгополых их одеждах (последнее - не обязательно, носили и короткие пиджаки с сильно закругленными полами, суконные куртки, студенты - блузы под пояс). Между прочим, им вот было уже знакомо слово "трамвай", только писали они его еще по-английски. А "телефон" - уже газетной кириллицей, и на все откликающийся Дмитрий Минаев фельетонил:
Телефоны связали все здания, Все жилища: при помощи их Композиторов новых созданье Можно слушать в квартирах своих. И, забыв суматоху напрасную, В зимний или осенний сезон, Чтоб не бегать в погоду ненастную, Можно сплетничать чрез телефон.
Правда, это еще не всерьез, это, так сказать, лишь мечта о невероятной технике будущего, но осуществление ее фельетонист планирует уже на ближайшие четверть века - и не ошибается в прогнозах.
Да, вероятно, кое в чем мы не поняли бы друг друга, в главном однако могли б рассуждать и спорить с полным духовным контактом, очень во многом, конечно, не сходясь. Что ж, у каждого времени своя правда.
В домашнем отношении восьмидесятый год начался у Достоевских неудачно, и было совсем не до праздников. Федор Михайлович, как обычно, опаздывал с очередным отправлением в редакцию "Русского вестника". Намеченный для январского номера кусок катастрофически разрастался, а главный и незаменимый помощник внезапно выбыл из строя.
Н. А. Любимову Федор Михайлович объясняет это еще в достаточно спокойном тоне, чтобы не испугать редакцию: "Книга 8-я Карамазовых почти вся уже готова, и на днях вышлю. Внезапная болезнь жены моей, моей помощницы в работе (она стенографирует с написанного мной и потом переписывает), поставила меня вдруг в самое затруднительное положение..."
Дочери графини С. А. Толстой С. П. Хитрово, пригласившей его на вечер, Достоевский отвечает куда откровеннее (в тот же день - 8 января): "...прийти не могу. Готовлю к завтраму отослать часть рукописи в Русский вестник. Всю ночь напролет буду сидеть. А конец еще и не дописан, трое суток еще просижу в работе и 15-го сдам, вероятно, и конец на почту.
Сам хожу чуть не помешанный. Жена же простудилась 1-го января, а 4-го слегла в постель и теперь лежит, лечится, ездит доктор, простудилась, кашель и лихорадка. И во всей моей жизни страшный беспорядок".
Простуда Анны Григорьевны затянулась довольно надолго. Во всяком случае, еще в последний день января Федор Михайлович объясняет теще: "Вы спрашиваете о здоровье Ани и очень беспокоитесь. Она была больна с 1-го января простудою и острым (т. е. временным) катаром легких. Но уже несколько дней как она выходит, хотя все еще немного кашляет".
Как мы уже упоминали, Анна Григорьевна ознаменовала новый год началом некоторого коммерческого предприятия. Даже лежа в постели с температурой, она слегка хвастается в письме племяннику Александру. Андреевичу, которому весьма благоволит: "Пишу нарочно на бланке, а то вы не поверите, что я книжница. А я имела уж заказ в 50 рублей и заработала 4 рубля 80 копеек. Каково!"
Бланк же письма гласит: "Книжная торговля Ф. М. Достоевского (исключительно для иногородних). С.-Петербург. Кузнечный переулок, д. 5, кв. 10".
В "Воспоминаниях" Анна Григорьевна записала: "Федор Михайлович очень интересовался ходом нашего предприятия, и в конце каждого месяца я составляла для него рапортичку доходов и расходов по этому делу. Обыкновенно прибыль колебалась от 80-90 рублей в начале и конце года (при подписке на журналы и газеты) и от 40-50 рублей в летние месяцы. В общем, первый год торговли дал за всеми расходами чистой прибыли 811 рублей".
Функции "Книжной торговли исключительно для иногородних" Анны Григорьевны напоминали нынешнюю "Книгу почтой", только работала Достоевская не в пример аккуратнее, энергичнее и инициативнее.
Была ли необходимость в создании этой "фирмы", вызывавшей в некоторой части петербургской прессы (большей части бульварного толка) определенные насмешки над, так сказать, "купеческими замашками" Достоевского (формально он, как-никак, давал "деду" свое имя)?
Во-первых, к этим усмешечкам остался Федор Михайлович, точно можно сказать, равнодушен, совершеннейшим образом. Если глупость и могла вызвать у него раздражение, то уж во всяком случае не такая микроскопическая, Все, чьим мнением он мог сколько-нибудь дорожить, отлично знали, что, с одной стороны, время ныне такое, коммерческое, а с другой - что сам Достоевский, независимо ни от какого времени, уж известно какой коммерсант...
Вместе с тем довольно энергичная деятельность Анны Григорьевны на этом поприще очень мало что изменила в том году в материальном положении семьи. Особенно худым оно не было (не то, что в прошлые периоды), не было и очень хорошим, но восемьсот одиннадцать рублей, заработанных Достоевскими с немалой суетой в течение года, вряд ли стоили даже дешевых каламбурчиков в "Петербургской газете". Больше все-таки Анна Григорьевна, как в древнем анекдоте, лишь чувствовала себя "при деле", хотя, бог видит, скукой ей и так страдать было некогда.
Ей все же было невозможно справиться в одиночку с покупкой книг, подпиской на газеты и журналы и рассылкой всего этого по самым контрастным адресам России. Наняли "мальчика" (за 25 рублей в месяц, "кушанье готовое"), пятнадцатилетнего Петю Кузнецова. Он сделался впоследствии известным петербургским книжником - человеком, впрочем, не очень образованным,- прожил долгую жизнь и оставил (уже стариком, в советское время) краткие воспоминания о своей службе в "книжной торговле для иногородних". Воспоминания пролежали еще несколько десятилетий неопубликованными и увидели свет сравнительно недавно. Самое интересное в них, как менялось отношение подростка не шибко грамотного, но вместе с тем, видно, уже и несколько по-столичному тертого - к своему "хозяину".
"Первое время на меня произвело впечатление, что Федор Михайлович очень сердитый и как я буду у него служить, но, прослуживши некоторое время, я привык, и Федор Михайлович оказался для меня не сердитым". А в конце П. Г. Кузнецов даже делает такой вывод: "Для меня он был очень хороший человек и как отец..."
Поздно просыпаясь, Федор Михайлович звал уже наработавшегося подростка пить с ним чай или кофе. Сначала мальчику это было непривычно и неловко, а потом он полюбил эти завтраки вдвоем (только вдвоем) с разными разговорами. Достоевский съездил к хозяйке, у которой Петя снимал угол, посмотрел, как он живет, расспросил, чем занимается вечерами, отсоветовал играть в дурачка и тетку, а наказал брать в собой после работы книги...
Написал П. Г. Кузнецов в своих "мемуарах" и о настоящей распорядительнице "дела" (и ведь сколько воды утекло с той поры): "...Анна Григорьевна очень была жадная, нет-нет его своей бедностью расстраивала. Раз Ф. М. сам накупил всего много, из-за этого вышла целая баталия, и Ф. М. раскричался и затопал ногами, что "все тебе мало, все себя изображаешь нищей".
И еще раз повторю: не для уничижения хорошего человека Анны Григорьевны Достоевской привожу я такие примеры. Она знала, что такое бедность не только из романов мужа, и часто ее нервы не выдерживали каких-нибудь пустяков. Она тоже была добра, но доброта ее - в отличие от доброты мужа - по-бытовому очерчивалась довольно узким семейным кругом, за что, еще раз скажу, винить ее смешно.
Хочу привести одну выписку, несколько "со стороны".
Это из воспоминаний Григория Бакланова об А. Т. Твардовском. Бакланов читал в это время биографию Нильса Бора.
"...я и сказал, что, наверное, интересно написать великого человека.
- А что великий! "..Что великий? Ничем особенным он от остальных людей не отличается.
И через свою думу убежденно и просто сказал опять:
- Великий - он обыкновенный".
Возвращаясь к теме, определим так: Федор Михайлович был обыкновенный великий человек, а Анна Григорьевна - обыкновенная хорошая женщина, которой выпало нелегкое счастье по-обыкновенному полюбить великого человека. Конечно, счастье, но, конечно, трудное, за которое платить порой приходилось в самых неожиданных местах и самой непривычной монетой.
Несмотря на страшную напряженность, с какой Федор Михайлович трудился над "Карамазовыми", ему довольно часто и в эти месяцы приходилось выступать на литературных вечерах. Популярность его все росла. Можно сказать, что литературное чтение в Питере теперь считалось лишь тогда проходящим "по первому классу", когда в нем участвовал Достоевский (или Тургенев, но он значительное - хотя и меньшее, чем прежде,- время проводил вне России).
Анна Григорьевна, почти всегда теперь сопровождавшая мужа на выступления, вспоминает:
"Литературные вечера устраивались большею частью в зале городского Кредитного общества против Александрийского театра или в Благородном собрании у Полицейского моста.
...Я постоянно привозила с собой на вечера: книгу, по которой муж читал, лекарство от кашля - эмские пастилки... плед, чтобы закутать горло мужа по выходе на холодный воздух, и проч.
...На каждом литературном вечере... Федор Михаилович непременно посылал распорядителей или знакомых посмотреть, где я сижу и с кем разговариваю. Он часто подходил к полуотворенной двери читательской и издали разыскивал меня на указанном мною месте. (Обыкновенно родным читавших предоставляли места вдоль правой стены, в нескольких шагах от первого ряда).
Вступив на эстраду и раскланявшись с аплодирующей публикой, Федор Михайлович не приступал к чтению, а принимался внимательно разглядывать всех дам, сидевших вдоль правой стороны. Чтобы муж меня скорее заметил, я или отирала лоб белым платком, или привставала с места. Только убедившись, что я в зале, Федор Михайлович принимался читать".
Распорядители потихоньку посмеивались и, наверно, называли супругов старосветскими помещиками. Им не было известно одно весьма существенное обстоятельство.
Как-то Анна Григорьевна, зная, что болезнь мужа прогрессирует, попросила брата-врача внимательно осмотреть его. Шурин, разумеется, успокоил Федора Михайловича, но сестре прямо сказал, что организм больного разрушается быстрыми темпами и что в любую минуту может произойти драма. С тех пор Достоевская старалась как можно реже оставлять супруга одного. И к знакомым по вечерам стала ходить с ним и даже "заказала себе для выезда элегантное черное платье..."
Так начался последний семейный год Достоевских.
А "Народная воля" начала восьмидесятый год с опубликования - в первый же день года - своей программы, где, в частности, говорилось:
"Мы должны поставить своей ближайшей задачей - снять у народа подавляющий гнет современного государства, произвести политический переворот с целью передачи власти народу.
...Ввиду придавленности народа, ввиду того, что правительство частными усмирениями может очень надолго сдерживать общее революционное движение, партия должна взять на себя почин самого переворота, а не дожидаться того момента, когда народ будет в состоянии обойтись без нее.
...Наша цель: отнять власть у существующего правительства и передать ее учредительному собранию, которое должно пересмотреть все наши государственные и общественные учреждения и перестроить их согласно инструкциям своих избирателей".
Разумеется, почти все народовольцы не рассчитывали, что политический переворот в стране может немедленно привести к социалистическому переустройству российской действительности, еще хранящей грубые черты крепостничества. Наоборот, они с горечью думали, что плодами их трагической и кровавой борьбы смогут с выгодой для себя воспользоваться либералы, да и буржуазия в целом. Но иного выхода они теперь не видели. Н. К. Михайловский, как публицист тесно связанный ныне с революционным подпольем, печатал (под псевдонимом Гроньяр) в нелегальных изданиях "Политические письма социалиста", где разъяснял товарищам: "Александр II не даст конституции, ее можно только вырвать у него. Он с упрямством слепца хочет умереть самодержавным царем... Конституционный режим есть вопрос завтрашнего дня в России. Этот завтрашний день не принесет разрешения социального вопроса. Но разве вы хотите завтра же сложить руки?.. Век живи, век борись!"
Слова публициста об императоре: "Он с упрямством слепца хочет умереть самодержавным царем", сейчас, когда мы знаем о закулисных событиях той поры не так уж мало, не кажутся преувеличением. В один из последних дней января приближенные государя собрались в Зимнем, чтобы рассмотреть вопрос о возможности осуществления хоть каких-нибудь реформ. Император записывает своим микроскопическим почерком: "Совещание с Костей* и другими, решили ничего не делать".
* (Великий князь Константин Николаевич, председатель Государственного совета.)
До поры до времени это оставалось верхом государственной мудрости императорской клики.
Народовольцы же времени не теряли. Они вели наступление.
Вера Фигнер пишет в своем "Запечатленном труде": "В то время сочувствовавший "Народной воле" очень интеллигентный рабочий Степан Халтурин, столяр по профессии, работавший на императорской яхте, получил возможность поступить в Зимний дворец для работ по своей специальности. Имея целью совершить революционный акт против Александра II, он снесся через Квятковского с Исполнительным комитетом, который... вполне одобрил такой шаг и взял предприятие в свои руки".
Степан Халтурин отнюдь не был "прирожденным" террористом. Он, человек исключительного ума и воли, еще до знакомства с народовольцами стал организатором и вожаком "Северного союза русских рабочих" и пользовался среди товарищей-рабочих авторитетом громадным. Мы уже приводили свидетельство В. Г. Короленко, что Халтурин и позже не видел панацеи в индивидуальном терроре и хорошо различал его отрицательные черты. И тем не менее он пришел к террору - других действенных средств борьбы с самодержавием он не отыскал. Халтурин стал героем одного из наиболее прославленных актов "Народной воли", а два года спустя был казнен как безымянный участник другого политического убийства - ликвидации в Одессе военного прокурора Стрельникова.
Поступив на службу в Зимний дворец под именем столяра Батышкова, Халтурин стал знакомиться с обстановкой, с людьми - и внезапно оказался на грани провала. Связь с ИК Халтурин поддерживал, в основном, через Квятковского. Последний был арестован 24 ноября 1879 года, и при обыске у него была найдена крайне компрометирующая улика часть плана Зимнего дворца, на которой крестиком была отмечена столовая, где царь обычно обедал с семьей. Но жандармы не сумели уцепиться за эту улику (впоследствии, когда стало ясно, что к чему, именно она привела Квятковского на виселицу).
Халтурин жил в общежитии прислуги двумя этажами ниже столовой (в промежуточном этаже помещались солдаты охраны). Установив время, когда члены царствующего дома садились за обеденный стол, подрывник стал небольшими порциями проносить динамит в комнату, где спал, Это продолжалось неделями, и каждый их час грозил арестом и гибелью. Халтурина поддерживала ненависть, которую он, несомненно, испытывал лично к императору после разгрома "Союза рабочих". Л. Тихомиров впоследствии записал его слова: "Александр II должен пасть от руки рабочего, пусть знают все цари, что мы - рабочие - не такие глупые, что не можем оценить достойно те услуги, какие цари оказывают по отношению к народу". И Тихомиров прокомментировал: "Эта мысль, что царь - изменник народа - должен погибнуть от руки его представителя, сделалась настоящею idee fixe для Халтурина",
После изъятия Квятковского связь с Халтуриным поддерживал Желябов. К взрыву все было готово. Несколько дней они встречались на улице в условленном месте, и дворцовый столяр на ходу бросал: "Нельзя было".
Главная сложность заключалась в том, что Халтурину надо было в соответствующий момент соединить бикфордов шнур с запалом в динамите, а для этого он должен был один находиться в комнате, где обычно размещалось немало народу.
Наконец, во время свидания 5 февраля 1880 г. Халтурин произнес другое слово: "Готово". И буквально через несколько секунд по всему центру царской столицы пронесся гул сильного взрыва.
Желябов отвел Халтурина, находившегося на грани нервного припадка, на конспиративную квартиру. Почти падая без сознания, тот спрашивал об одном: достаточно ли на квартире оружия. "Живым я им не дамся".
Скоро выяснилось, что окончилось, в общем, безрезультатно и это покушение: встречая иностранного гостя, Александр Николаевич задержался с входом в столовую. В промежуточном этаже было убито и ранено около пятидесяти солдат.
В первые часы ИК оценил случившееся, как новую крупную неудачу. И лишь постепенно стало ясным, что последствия этого взрыва значительнее, чем цена головы посредственного монарха.
В эти дни Федора Михайловича посетил ставший в то время довольно близким ему - во всяком случае небезынтересным собеседником редактор "Нового времени" А. С. Суворин, и между ними состоялся глубоко знаменательный разговор, сохраненный Сувориным в своем потайном, отнюдь не предназначавшемся для посторонних глаз дневнике, где ренегат и умный циник разрешал себе для отдохновения духовного полную откровенность. Вот что зафиксировал очень памятливый журналист:
"...разговор скоро перешел на политические преступления вообще и на взрыв в Зимнем дворце в особенности. Обсуждая это событие, Достоевский остановился на странном отношении общества к преступлениям этим. Общество как будто сочувствовало им пли, ближе к истине, не знало хорошенько, как к ним относиться.
- Представьте себе,- говорил он,- что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: "Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину". Мы это слышим. Представьте себе, что мы это слышим, что люди эти так возбуждены, что не соизмеряют обстоятельств и своего голоса. Как бы мы с вами поступили? Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?
- Нет, не пошел бы...
- И я бы не пошел. Почему? Ведь это ужас. Это - преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить. Я вот об этом думал до вашего прихода, набивая папиросы. Я перебрал все причины, которые заставляли бы меня это сделать. Причины основательные, солидные, и затем обдумал причины, которые не позволяли бы мне это сделать. Это причины прямо ничтожные. Просто боязнь прослыть доносчиком. Я представил себе, как я приду, как на меня посмотрят, как меня станут расспрашивать, делать очные ставки, пожалуй, предложат награду... Напечатают: Достоевский указал на преступников. Разве это мое дело... Мне бы либералы не простили. Они замучили бы меня, довели бы до отчаяния. Разве это нормально? У нас все ненормально, отчего все это происходит, и никто не знает, как ему поступить не только в самых трудных обстоятельствах, но и в самых простых. Я бы написал об этом. Я бы мог сказать много хорошего и скверного и для общества, и для правительства, а этого нельзя. У нас о самом важном нельзя говорить".
Нельзя не видеть, что логика Федора Михайловича в данном случае не продумана до конца, все время сбивается в сторону. Либеральная печать сообщала о писателе Достоевском много обидного, а он продолжал стоять на своем. Здесь положение такое: Федор Михайлович знает, что сообщить о готовящемся политическом преступлении (очевидно по обстоятельствам, что подразумевается именно цареубийство) он не сможет, а почему не сможет - не разобрался еще сам, и это его очень беспокоит. До конца сформулировал эту мысль Федор Михайлович спустя несколько месяцев, готовя так и не появившиеся в печати возражения либералу Кавелину. Там эта мысль отчетливо оформлена так: вопреки распространенному мнению, не всегда нравственно поступать согласно своим убеждениям, если этот твой поступок не соответствует высшему нравственному идеалу.
Там Достоевский говорит: великий инквизитор вполне следует своим убеждениям, сжигая еретиков, но такая последовательность безнравственна. Достоевский - монархист, цареубийство по его взглядам тягчайшее преступление, но выдавать людей, решившихся на него из глубоких этических побуждений, жертвуя своей жизнью, невозможно, тут иной порядок нравственности, иная ступень морали. Для Федора Михайловича высшая нравственная красота - мораль Христа, а тут будут моральные нормы Иуды... И какие бы ни были у тебя политические взгляды - тут не преступить, ибо так далеко можно зайти в последовательности убеждений, что и человека в себе потеряешь...
В. Б. Шкловский высказал даже предположение, не стал ли Федор Михайлович случайным свидетелем какого-нибудь подобного реального разговора подпольщиков. Это, конечно, крайне маловероятно. Но Шкловский указывает, что место предполагаемого свидания Федор Михайлович обозначил не случайно - он там проходил часто и, надо думать, не раз "прокручивал" в уме подобную встречу.
А. С. Суворин так записывает завершение этого разговора: "Он долго говорил на эту тему и говорил одушевленно. Тут же он сказал, что напишет роман, где героем будет Алеша Карамазов. Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили. Он искал бы правду и в этих поисках, естественно, стал бы революционером..."
Крупнейший исследователь последней эпохи жизни и творчества писателя А. С. Долинин утверждает: "В этот послед он часто находился между верой и безверием как относительно "спасительницы" - православной церкви, так и революции - "безбожного социализма"... Скорее же всего в этот период путь революционный должен был - порою по крайней мере - казаться ему более вероятным".
По некоторым другим данным Алеша должен был стать в новом романе "русским социалистом", отчасти в духе самого автора. Это противоречие вызвало даже определенную литературоведческую дискуссию. Между тем, оно, скорее всего, кажущееся. Путь от мирного "русского социалиста" к мысли о цареубийстве - характернейший путь семидесятников, тех "русских мальчиков", к которым принадлежал Алеша Карамазов. Можно даже сказать, что мысль большинства из них прошла за десятилетие именно эту нелегкую дорогу.
Состояние царствующих обитателей Зимнего в эти февральские дни представить себе можно, не особенно напрягая фантазию. Царь две недели не покидал дворца, который, впрочем, уже никак не мог казаться надежным убежищем. Константин Константинович меланхолически записал 6 февраля: "Нервы так настроены, что поминутно рассчитываешь взлететь на воздух".
В записи от следующего дня уже больше рефлексии, чем эмоций: "Мы переживаем время террора с той только разницей, что парижане в революции видели своих врагов в глаза, а мы их не только не видим и не знаем, но даже не имеем ни малейшего понятия о его численности". И подытоживает господствующее вокруг императора впечатление: "Всеобщая паника". Это подтверждается и характерной записью наследника престола: "Страшное чувство овладело нами. Что же нам делать?" Были отменены все празднества, назначенные на 19-20 февраля в связи с четверть вековым юбилеем царствования обожаемого монарха. В самом деле, только их и не хватало. В "Московских ведомостях" Катков стонал: "Бог охраняет своего помазанника. Только бог и охраняет его".
За частным случаем неуспеха отдельного террористического акта русское и мировое передовое общественное мнение быстро разглядело иное - могущество русской революции, проникшей в самое логово царизма. Показалось, что таинственный и вездесущий ИК действительно может все.
"Взяв себе в помощники химию и электричество, революционер взорвал царский поезд и пробрался в царские чертоги. ...В то время как мы сами глубоко страдали от неудач, вокруг нас росла слава Комитета, эффект его действий ослеплял всех и кружил головы молодежи. Общий говор был, что теперь для Комитета нет ничего невозможного. За грандиозностью событий забывалась сама неудача" (Вера Фигнер).
Героический ореол вокруг голов народовольцев замечали теперь и те, для кого еще недавно "нигилист с револьвером" казался только злодеем.
В европейском масштабе это подтвердила история Льва Гартмана. Активный участник подпольного движения, готовивший вместе с многими товарищами взрыв на Московско-Курской дороге, Л. Н. Гартман не принадлежал, однако, к руководителям "Народной воли". Он не являлся даже членом ИК, числился его агентом. Однако охранка почему-то вообразила его едва ли не главарем всего грандиозного "заговора" (до полученных обманным путем сведений от Гольденберга, руководители царского сыска очень мало знали о реальной силе подполья и его деятелях; да и в показаниях Гольденберга было столько субъективного, что и они рисовали картину довольно смутную; по-настоящему для жандармов дело повернулось к лучшему, лишь когда, во-первых, были куплены крупные провокаторы - Окладский, Меркулов и пр., знавшие в лицо весь ИК, и когда, во-вторых, из-за децентрализации сыска легендарный контрразведчик революционного Подполья Н. В. Клеточников потерял возможность передавать товарищам общий план предполагаемых репрессий и фамилий всех агентов охранки). Гартман к тому времени успел эмигрировать в Париж и там, через десять дней после взрыва в Зимнем дворце был арестован фрунцузской полицией. Царские власти потребовали его выдачи как уголовного преступника, Возможно, год назад так бы и случилось. Во всяком случае, французский премьер-министр Ш. Л. Фрейсине пообещал представителям царя возвращение Гартмана в родные пенаты.
Но теперь у этих таинственных "русских нигилистов" была мировая слава. Большинство французских газет перепечатали письмо ИК "Французскому народу". Париж сотрясали митинги протеста. В защиту русского подпольщика выступили виднейшие авторитеты передовой Европы. Патриарх французской литературы, уже десятилетия числящийся в ее классиках, Виктор Гюго обращался к своему правительству: "Вы не можете выдать этого человека... Законы о выдаче преступников не затрагивают политическую сферу. Все нации соблюдают эти законы. Франция тоже их соблюдает. Вы не выдадите этого человека!"
А рядом гремел голос Гарибальди: "Гартман - смелый молодой человек, к которому все честные люди должны питать уважение и признательность. Министр Фрейсине и президент Греви не сохранят за собой имени честных республиканцев, если выдадут политического изгнанника. Это было бы достойно версальских гиен".
Гартман на какой-то промежуток времени стал самым знаменитым человеком в мире. Хотя правители третьей республики прочно держались за фалды шинели русского царя - ибо слишком близко сверкал оскал львиной челюсти Бисмарка - они все же не решились идти против такого течения. В выдаче Гартмана русским властям отказали под смехотворным предлогом невозможности установить идентичность личности этого Гартмана и того, участника покушения.
Царь страшно обиделся и на несколько месяцев отозвал из Парижа своего посла. Катков печатно оформил обиду своего венценосного шефа на Францию, заклеймив "позор ее правительства, прикрывающего явной ложью свое бессилие перед революционной сволочью".
ИК использовал популярность Гартмана в Европе, чтобы соответствующим образом организовать мировое общественное мнение. Гартман, назначенный уполномоченным ПК в Европе, получил от руководителей подполья ряд посланий для передачи их наиболее знаменитым и авторитетным деятелям революционной культуры мира. Одно из них русский эмигрант вручил Карлу Марксу. В нем, в частности, говорилось: "Задача наша была бы значительно облегчена, будь за нас серьезное сочувствие общественного мнения свободных стран, для чего требуется лишь знание истинного положения дел в России. В этих соображениях мы поручаем товарищу нашему Льву Гартману озаботиться организацией средств для правильного ознакомления общественного мнения Англии и Америки с текущими событиями нашей общественной жизни. Вас же, многоуважаемый сотоварищ, просим оказать ему содействие в этом деле".
Известно, что Маркс через Гартмана передал ИК свою фотокарточку с дарственной надписью. К великому сожалению, до нас эта драгоценная реликвия не дошла.
...Однако самодержавие было все-таки вынуждено что-то демонстрировать своему народу и всему миру, и помимо обид против неблагодарных "лягушатников".
9 февраля Александр II объявляет своему окружению о создании Верховной распорядительной комиссии и о назначении его председателем графа Михаила Тариеловича Лорис-Меликова.
Есть основания предполагать, что самодержец сам в этот момент не имел ясного представления, каковы в точности цели и задачи этого новорожденного административного детища. С руководителем комиссии было несколько понятнее - на ключевые административные посты империи последний год ставились военачальники последней войны. Лорис-Меликов командовал русскими войсками в Закавказье. Фронт является относительно второстепенным; тем характернее, что генерал вошел в число героев войны (ну, не со славой Скобелева, конечно, но все-таки), он командовал своей армией вполне успешно, взял несколько крупных турецких крепостей. После создания временных генерал-губернаторств Михаил Тариелович получил назначение в Харьков.
Вначале едва ли не всеми создание новой комиссии и назначение во главе ее нового и не очень все же известного но стране "отца солдатам" рассматривалось только лишь как продолжение и усиление политики репрессий правительства, как дальнейшее закручивание гаек, В этом смысле высказались "Московские ведомости" - Катков ведь еще год назад мечтал прибавить к шести местным сатрапам еще одного - всероссийского, разумеется, предельно верноподданного, но и предельно решительного. А. А. Киреев записывал в дневнике: "...Читаю приказ о Лорис-Меликове. Диктатура полнейшая. Вице-император. Что ж, если настоящему императору не удастся сладить с нигилистами, то пусть ладит кто иной. Государю-то, пожалуй, вешать не слишком удобно".
"Лад" уверенно приравнивался к виселицам.
Странно, но вроде бы в самые первые дни существования комиссии никто (даже Катков) не обратил внимания на такую деталь. Как известно, временным генерал-губернаторам было предоставлено право казни политических преступников (ну, не буквально росчерком пера, а с соблюдением некоторых военно-бюрократических формальностей, но суть все хорошо понимали). За восемь месяцев 1879 года в шести временных генерал-губернаторствах было совершено шестнадцать таких казней (больше всего в Одессе - восемь; там губернаторствовал герой не только русско-турецкой, но и Крымской войны давний знакомый Федора Михайловича - еще по инженерному училищу - Тотлебен. Правда, говорили, что это зловещее число эшафотов объясняется не столько, так сказать, сознательным ретроградным радикализмом старика, сколько тем, что он по дряхлости мысли и воли целиком доверился своему помощнику С. Ф. Панютину, успешно строившему на виселицах карьеру. Впрочем, и сам бывший сподвижник Корнилова и Нахимова находился еще не в мафусаиловом возрасте и понимал, какие бумаги подписывает).
Другие временные генерал-губернаторы не столь стремились к славе инквизиторски беспощадных борцов с крамолой, но все же казни происходили во всех "сатрапиях". Кроме одной. В Харькове при Лорис-Меликове виселиц не строили.
Это не означает, разумеется, что Михаил Тариелович был человеком особо мягкого сердца (кстати, отметим, что режим в политических тюрьмах при нем не был смягчен - наоборот, устрожен), или, тем более, что граф хотя бы в малейшей мере мог сочувствовать целям и методам революционеров. Но он оказался достаточно гибким человеком, чтобы понять: дальше крутить гайки в одном направлении бесполезно. Нужна стратегия определенного лавирования. А для ее осуществления ему, прежде всего, требовалась настоящая власть,
Военный министр Д. А. Милютин быстро сообразил это. Вот цитата из его дневника; "Гр. Лорис-Меликов понял свою новую роль не в значении только председателя следственной комиссии, а в смысле диктатора, которому как бы подчиняются все власти, все министры".
И надо отдать должное старому деятелю военной реформы; он сразу же согласился сотрудничать с таким диктатором, никак не претендуя на первенство. Вскоре к ним двоим присоединился новый министр финансов А. А. Абаза, и они составили триумвират, пользовавшийся больше года в России весьма серьезной властью.
Не будем переоценивать этих столпов либеральной бюрократии: конечно, они хотели спасти в России монархию, конечно, их политика определялась в конечном счете интересами тогдашних правящих классов империи. Однако истинную перспективу этих интересов они прозревали куда дальновиднее, чем Катков и Победоносцев, и уже поэтому их не следует уравнивать в исторической памяти с последними,
Правда, основные силы самодержавия уже явно предпочли бешеную гонку по ухабам истории...
Кроме того, нельзя забывать, что и прозорливость этих неблизоруких людей - которых в личной корысти не заподозришь - имела определенные классовые горизонты - их же не перейдешь. Крупнейшим экономическим шагом министра финансов Абазы была отмена подушной подати на соль. Замышлялась она, несомненно, в интересах "простого народа" и с целью укрепления в нем авторитета царя. В результате казна потеряла очень крупную статью дохода, "простому народу" благословлять монарха оказалось не за что - он, народ этот, на получил ровно ничего, а миллионеры - солевары и солеторговцы - удвоили и утроили свои состояния...
Но в 1880 году все это еще не было ясно, и многие умные люди - в том числе и Федор Михайлович Достоевский - считали, что еще существует возможность выбора... Вера в эту возможность не смогла продержаться сколько-нибудь долго, но ее период вобрал в себя весь последний промежуток биографии великого писателя...
Подводя окончательные итоги всей - недлинной - эры "лорис-меликовщины", Владимир Ильич Ленин писал, что "...осуществление лорис-меликовского проекта могло бы при известных условиях быть шагом к конституции, но могло бы и не быть таковым: все зависело от того, что пересилит - давление ли революционной партии и либерального общества или противодействие очень могущественной, сплоченной и неразборчивой в средствах партии непреклонных сторонников самодержавия".*
* (В. И. Ленин - Полн. собр. соч, Т. 5, с, 39.)
Среди множества переплетающихся и разновеликих факторов, которые в итоге сказались на решающих шагах истории, оказался и тот факт, что народовольцы сразу, решительно и бесповоротно оценили политику Лорис-Меликова только как лицемерие, отвергли как ничего не меняющую в ситуации в стране политику "лисьего хвоста и волчьей пасти" (так определял ее в подпольных изданиях Михайловский). Однако это было не совсем верно. В стратегии Лорис-Меликова вынуждены были найти место и реальные уступки, наступлению передового лагеря, уступки, вырванные самоотверженной борьбой самой "Народной воли". Но Исполнительный комитет по сути дела игнорировал их, чего бы, разумеется, не сделало революционное движение на более зрелом этапе.
Прямолинейный максимализм, нежелание даже попробовать поискать новые тактические возможности в меняющейся политической ситуации оказались явным промахом ИК.
В объяснение этого промаха следует сказать, что ряд обстоятельств первых дней диктатуры Лорис-Меликова сложился так, что давал основание видеть в его диктатуре лишь новый лицемерный, рассчитанный только на обман общества шаг самодержавия.
15 февраля М. Т. Лорис-Меликов опубликовал воззвание "К жителям столицы", где говорилось:
"Не давая места преувеличенным и поспешным ожиданиям, могу обещать лишь одно - приложить все старания и умения к тому, чтобы, с одной стороны, не допускать ни малейшего послабления и не останавливаться ни перед какими строгими мерами для наказания преступных действий, позорящих наше общество, а с другой,- успокоить и оградить законные интересы его благомыслящей части... На поддержку общества смотрю как на главную силу, могущую содействовать власти к возобновлению правильного течения государственной жизни..."
Либералы враз почувствовали себя подброшенными к небесам: власть сообщала, что смотрит на поддержку общества как на главную свою силу... Это было ошеломительно новым, хотя никаких конкретных обещаний при этом благоразумно не давалось...
А 20 февраля на столь либерально заявившего себя "вице-императора" было совершено покушение.
Внешне покушение выглядело довольно странно. Покушавшийся, И. О. Млодецкий, собирался стрелять в графа у подъезда его дома в окружении чуть не целой толпы жандармов, часовых, верховых казаков. Разумеется, его схватили, не дав ничего сделать.
В специальной прокламации ИК подчеркивал, что Млодецкий совершал свое покушение не по решению организации, что оно "единоличное, как по замыслу, так и по исполнению". В листке руководства организации даже не без оттенка задетого самолюбия сообщалось: "Это обстоятельство, между прочим, отразилось и на технической стороне предприятия. ИК без всякого сомнения, изыскал бы более верные средства совершения казни Меликова, если бы над ним состоялся смертный приговор".
Однако в прокламации не отрицалось, что Млодецкий, не будучи членом "Народной воли", знаком организации и даже обращался к ней с предложением совершить какой-либо террористический акт; впрочем, ответа ждать не стал.
Даже по тем временам "юриспруденции на перекладных" петербуржцев поразили темпы судебной расправы над террористом: покушение было совершено 20 февраля, следствие и суд заняли 21-е, а 22-го Млодецкий был уже публично повешен.
В подробном рассказе советского историка Н. А. Троицкого об этом экспресс-процессе тоже не все выглядит логически объяснимым:
"...подсудимый заявил о своей солидарности с народовольцами: "Я социалист, разделяю вполне их убеждения, но знакомых моих и друзей не назову". К процедуре суда Млодецкий отнесся с презрением. На вопрос о виновности, он, как записано в протоколе, "сидя на скамье, отвечал, что ему надоела эта комедия. Давать более никаких объяснений не будет, а оставляет только за собой право на последнее слово". Председатель суда приказал Млодецкому встать, угрожая, в противном случае, удалить его из зала и рассматривать дело о нем без него. Млодецкий не встал. Его удалили. Дальнейшие формальности (допрос свидетелей, речи прокурора и защитника) наскоро провели в отсутствие подсудимого, а его вновь потребовали в зал только для того, чтобы выслушать его последнее слово (к сожалению, в протоколе оно замалчивается) и объявить смертный приговор".
Таким образом, для всех (во всяком случае не слышавших лично последнего слова подсудимого) осталось загадкой, почему для покушения была выбрана именно эта кандидатура. Между тем, революционеры, как правило, на суде или в специальных прокламациях тщательно объясняли, какие именно преступные действия именно этого царева слуги заставили их вынести ему приговор. Острили даже, что покушение совершено с целью показать публике, что диктатор - человек не трусливый (хотя, надо полагать, что на фронте ему доводилось иметь дело с куда более опытными стрелками). С другой стороны поведение Млодецкого - при всей необычности и ужасе его положения - все же заставляет сомневаться в его вменяемости.
20 февраля у Федора Михайловича случился сильный эпилепсический припадок (не исключено, что он был вызван известием о покушении). Тем не менее, 22-го, еще крайне слабый и с нервами, натянутыми, как струна, он отправился смотреть казнь Млодецкого. Этот его поступок вызвал недоумение даже у людей, несомненно, высоко ценивших и глубоко уважавших писателя.
Был удивлен и молодой великий князь Константин Константинович. В его записи от 26 февраля - косвенное отражение разговора с Достоевским по этому поводу (надо думать, прямых вопросов о подробностях казней, совершаемых по повелению его дяди, великий князь все же не задавал):
"Достоевский ходил смотреть казнь Млодецкого: мне это не понравилось, мне было бы отвратительно сделаться свидетелем такого бесчеловечного дела; но он объяснил мне, что его занимало все, что касается человека, все положения его жизни, его радости и муки. Наконец, может быть, ему хотелось повидать, как везут на казнь преступника, и мысленно вторично пережить собственные впечатления. Млодецкий озирался по сторонам и казался равнодушным. Федор Михайлович объясняет это тем, что в такую минуту человек старается отогнать мысль о смерти, ему припоминаются большей частью отрадные картины, его переносят в какой-то жизненный сад, полный весны и солнца, И чем ближе к концу, тем неотвязнее и мучительнее становится представление неминуемой смерти. Предсмертная боль, предсмертные страдания не страшны: ужасен переход в другой неизвестный образ..."
При полной искренности Федор Михайлович не все договаривает. Не то, чтобы он не доверял собеседнику, но, видимо, чувствует: тот слишком юн, чтобы понять главные мотивы его поступка. По Достоевскому каждый человек в мире нравственно отвечает за все, за всех людей вселенной, если только он не посторонний равнодушный наблюдатель происходящего (роль по Федору Михайловичу - презренная и жалкая). Не разделяя взглядов Млодецкого, писатель чувствует себя морально обязанным посильно принять на себя часть его боли. Это и есть сострадание. Но как объяснить это высокотитулованному юноше, который даже к злодейству, совершаемому его дядей,- человеком, с кем он каждый день почтительнейше здоровается и, наверное, искренне уважает, - даже к этому злодейству чувствует себя настолько непричастным, что со спокойной совестью осуждает его, а себя, члена "царствующего дома", считает в этом деле абсолютно чистым и совершенно посторонним!
Не исключено, что Федор Михайлович ожидал помилования на эшафоте - как было с петрашевцами, а в царствование Александра II - с Ишутиным. Ведь Млодецкий не успел никому нанести ни малейшего вреда! Ходили (смутные, однако) слухи, что диктатор просил царя за покушавшегося. Времена, однако, настали не те, и царь своим бисером вписал в памятную книжечку: "Млодецкий повешен в 11 ч. на Семеновском плацу - все в поряд".
Да, приговор был приведен в исполнение на Семеновском плацу - том самом, и место действия, разумеется, было добавочным мотивом, приведшим Достоевского к эшафоту юного террориста.
Через два дня А. И. Толстая писала дочери о Федоре Михайловиче: "...я нашла его... расстроенным, больным, донельзя бледным. На него сильно подействовала (как на зрителя) казнь преступника..."
Да, нелегко давалось писателю то, что он считал своими нравственными обязанностями!
С острым волнением приглядывался Федор Михайлович к поведению толпы на площади перед эшафотом. Хорошей знакомой С. И. Смирновой, писательнице, жене актера Александрийского театра Н. Ф. Сазонова, он пересказывает, "что на казни Молодецкого народ глумился и кричал... Большой эффект произвело то, что Мл. поцеловал крест. Со всех сторон стали гов.: "Поцеловал! Крест поцеловал". Целование креста не означало покаяния в поступке. Историк свидетельствует: "Во время казни... Млодецкий держался геройски: с улыбкой поднялся на эшафот и крикнул толпе простонародья, собравшейся вокруг виселицы: "Я умираю за вас!" Поэтому ПК, отдавая должное Млодецкому, поставил его поведение в ряд с лучшими примерами верности революционному долгу и не преминул использовать его в агитационных целях. "Грозен смерти час трусливому эгоисту, но непонятен страх убежденному человеку!" - гласила прокламация ИК по поводу казни Млодецкого.
Через несколько дней в Киеве были произведены еще две казни по политическим мотивам, причем в этом случае бессмысленная жестокость убийства являлась просто нелепой, доходила до зловещего театра абсурда. Были повешаны студент И. И. Розовский и унтер-офицер М. П. Лозинский, причем первый - только за то, что хранил у себя прокламацию "Народной воли". Не читал другим, не пытался распространить, просто держал ее у себя. Вместе с прочими бумагами. Надо учесть и то, что Розовский являлся лицом, еще не достигшим совершеннолетия, что делало его казнь совершенно незаконной. Об этом факте через двадцать лет с возмущением писал В. И. Ленин, называя убийство "17-летнего мальчика за найденный у него печатный листок" образцом жестокостей самодержавия, "не бывавших ни раньше, ни позже"*.
* (В. И. Ленин, Полн. собр. соч, Т. 5. С. 44.)
Напрашивается один из двух выводов: или сам Лорис-Меликов, уповая на "поддержку общества", хотел доказать при этом, что упования упованиями, поддержка поддержкой, а спрос с этого общества будет еще похлеще, чем прежде. Или каким-то силам надо было афишировать, что все новшества - несмотря ни на какие печатные декларации - сведутся к еще более свирепому "закручиванию гаек".
ИК остановился на втором мнении и весной вынес постановление о подготовке нового покушения на царя. Решено было произвести взрыв Каменного моста - по месту обычного проезда царя. Под мост предполагалось заложить и заложили десять пудов динамита. Взрыв должен был быть произведен с баржи, стоявшей около моста. Исполнители - Желябов и рабочий Тетерка. Дата - 17 августа.
А граф Лорис-Меликов старается, по его словам, "выбить почву революционного движения", что кажется ему, по-видимому, не таким уж трудным делом, ибо "нигилизм", по его убеждению, явление, "случайно занесенное к нам". Собственно, практические меры, которые диктатор осуществляет, не так уж грандиозны. Правда, немного расширены права земств. Правда - после нелегкой борьбы - отправлен в отставку мракобес, насадитель "классицизма", "министр народного помрачения" Д. Толстой. Правда, диктатор-филантроп "жалует" 2500 рублей на оплату права слушания лекций для ста бедных студентов столичного университета. Но интеллигенция склонна видеть в этих неторопливых шажках залог будущих благ и, возможно, даже знаменитого "увенчания здания".
К вице-императору идет со всех концов настоящий поток проектов и предложений - и все они, за очень малым исключением, предлагают либеральные, а то и радикальные изменения в жизни империи.
Позиции графа пока очень прочны. Император им доволен и доверяет ему. Одинаково хорош пока Лорис-Меликов и с наследником престола, и с давней любовницей царя, имеющей на него огромное влияние княгиней Юрьевской. Впрочем, здесь находится и будущий камень преткновения: невозможно долгое время быть в равно дружественных отношениях с этими двумя лицами, чьи интересы расходятся очень далеко... Лоялен покамест с диктатором Победоносцев, только что назначенный на пост обер-прокурора Синода. Катков же потух, притих, растерян... "Московские ведомости" потеряли значительную часть своей популярности и власти.
Однако эта тишь да гладь лишь на поверхности. В глубине, недоступной глазу ликующего обывателя, идет тщательная подготовка ряда жандармских операций, обескровивших потом "Народную волю" в конце 1880-го и начале 81-го. Продолжается в широких размерах практика административной высылки. По данным С. Степняка-Кравчинского за этот счастливый год выслано три тысячи лиц, заподозренных в неблагонадежности. Сколько же благодушных подданных царя находится под полицейским надзором, установить, видимо, невозможно. Называемая одним источником цифра в 400 000 человек, наверно, все-таки преувеличена, хотя важно, что источник этот - отнюдь не оппозиционный, а, как говорится, "близкий к правительственным кругам".
В семи крупнейших городах государства было перлюстрировано почти полмиллиона писем, из тысяч их были сделаны обширные выписки. Александр II страстно любил читать чужие письма; в этом было что-то фамильное, романовское. В рабочем дне главы огромной империи на подобное удовлетворение любопытства обязательно отводились специальные часы.
Так что под веселой зеленой травкой - прежняя погибельная трясина, но травка-то так изумрудна, столь красноречиво напоминает о весне!
А тут намечается одно грандиозное общественное торжество поистине весеннего характера и при том всероссийского масштаба - открытие памятника Пушкину в Москве!
Это было едва ли не первым событием такого рода, целиком осуществленным общественными силами - государственная власть не имела к нему никакого отношения; разве что царь утвердил место для монумента на Тверском бульваре.
Собирали деньги, отбирали проект, отливали памятник почти два десятилетия, но вот час празднества приближается. Он приурочен ко дню рождения поэта и назначен на 26 мая.
Для Федора Михайловича это праздник праздников, торжество торжеств - с "Бедных людей" он выделял имя Пушкина не просто как первого поэта родной великой литературы, но как национального гения и пророка, определяющего своим творчеством и своим духовным обликом все будущие пути русского народа. Его участие в предстоящих празднествах самоочевидно, и уже 9 апреля он вынужден отвечать С. А. Юрьеву:
"Я действительно здесь громко говорил, что ко дню Открытия памятника Пушкина нужна серьезная о нем (Пушкине) статья в печати. И даже мечтал, в случае, если б возможно мне было приехать ко дню открытия в Москву,- сказать о нем несколько слов, но изустно, в виде речи, предполагая, что речи в день открытия непременно в Москве будут (в своих местах) произнесены. Но в настоящее время я так связан моею нескончаемой работой по роману, который печатаю в Р. Вестнике, что вряд ли найду сколько-нибудь времени, чтобы написать что-нибудь веское и существенное. Статья не может уместиться на немногих страницах, а потому потребует времени, которого у меня решительно нет, Впоследствии, может быть".
Таким образом, размеры, а главное, принципиальное значение будущей "Речи о Пушкине" автору еще не ясны.
Время же страшно подгоняет. В апрельской книжке журнала после двухмесячного перерыва напечатана десятая книга романа "Мальчики", с интригой произведение, с фабулой убийства почти не связанная и поэтому нетерпения определенного сектора читательского круга не насытившая...
29 апреля Федор Михайлович пишет Н. А. Любимову: "Как я ни бился, а на майский (будущий) № "Русского вестника" опять ничего не могу доставить. Но через неделю уезжаю с семейством в Старую Руссу и в 3 месяца кончу весь роман. Таким образом продолжение может печататься (если одобрите) с июньской книжки, кончится Четвертая Часть в августовской книжке, и затем будет на сентябрьскую книжку еще заключение, 1 1/2 листа печатных (несколько слов о судьбе лиц и совершенно отдельная сцена: похороны Илюши и нагробная речь Алексея Карамазова мальчикам, в которой отчасти отразится смысл всего романа). Не мог же написать теперь в майской книжке потому, что здесь буквально не дают писать и надо скорее бежать из Петербурга. Виноваты же в этом опять-таки "Карамазовы". По поводу их ко мне ежедневно приходит столько людей, столько людей ищут моего знакомства, зовут меня к себе - что я решительно здесь потерялся и теперь бегу из Петербурга!"
Разумеется, большинство читателей-современников и читателей-потомков спешили переворачивать страницы романа вовсе не с целью поскорее узнать, кто именно нанес Федору Павловичу Карамазову роковой удар медным пресс-папье. Да и вообще спешили ли они переворачивать страницы?
Мне хочется привести несколько "стороннее", но весьма любопытное свидетельство - со страниц дневника известного советского драматурга А. Афиногенова, В начале 30-х годов ряд пьес молодого писателя, бывшего к тому же одним из руководителей РАППа, приобрел буквально ураганную славу. На премьере "Страха" во МХАТе Сталин в почетной ложе публично жал руку автору (которому тогда исполнилось двадцать пять лет).
Горький дружески приблизил к себе молодого коллегу, и Тот стал буквально своим человеком в горьковском доме (чего нельзя сказать даже о Всеволоде Иванове, так любимом Алексеем Максимовичем). И вот в 1937 году пьесы Афиногенова внезапно снимаются со всех сцен, а сам он - со всех своих многочисленных постов. Его исключают из партии. Год он сидит у себя на даче в Переделкино; никуда его больше не вызывают и за ним не приходят. Сидит, потихоньку пишет - особенно, конечно, не работается,- больше читает. В основном, классику. И преимущественно Достоевского.
И вот он дошел до "Братьев Карамазовых".
"Читаешь роман, сживаешься со всеми, кто в нем живет, и ощупываешь рукой правую, оставшуюся часть - много ли еще? И с радостью замечаешь, что еще много предстоит тебе пережить вместе с ними и поплакать хорошими слезами, и порадоваться, и застыть в ужасе, леденея и переворачивая страницы, как строки подлинной жизни".
"Алеша... он теперь раскрывается по-новому, совсем не в религиозном ханжестве... нет, в таком принятии всего мира и людского зла, что сам становишься лучше, читая про него, и самому хочется пережить в меру своих сил хоть что-нибудь подобное и так же, как Алеша, чувствовать себя всюду свободным, везде своим, не связанным ничем с местом на земле,- но любящим и землю и ее людей... Не бог, а жизнь, не евангелие, а подлинная любовь к человеку на земле..."
А ведь прошло всего три года со времени первого съезда советских писателей, на одном из заседаний которого решительный В. Б. Шкловский требовал осудить Достоевского, как "изменника революции".
(Правда, потом Виктор Борисович до смерти каялся в этом. У меня впечатление, что каялся он не столько в былой революционной нетерпимости, сколько в давней неискренности, которой тогда, скорее всего, не замечал и сам).
Через год Афиногенов был восстановлен в партии и быстро вернулся в ряды наиболее популярных драматургов страны. Как жаль, что так рано оборвала его жизнь фашистская авиабомба - не может быть, чтобы этот одинокий переделкинский год с его раздумьями над старым романом не отозвался бы в его новых произведениях самым благотворным образом.
Незадолго до пушкинского праздника произошла нелепая, "глупенькая", как назвал ее Федор Михайлович, "история с каймой". Накануне своего высшего в жизни внешнего торжества он едва не оказался в положении комическом, если не шутовском. Давно известно: жизнь слоиста.
В солидном журнале "Вестник Европы" солидный литератор П. В. Анненков печатал мемуары "Замечательное десятилетие"- произведение в своем жанре классическое, неоценимый исторический источник о жизни и взглядах многих выдающихся деятелей русской культуры 40-х годов. Анненков - мемуарист объективный и серьезный и вообще писатель, если и из "младших богов" русской классической литературы, то все же, бесспорно, "богов".
Но в данном случае Павла Васильевича черт попутал.
Чертом была давняя нелюбовь правоверного западника к Достоевскому.
Личных между ними столкновений не было, но, близкий друг и наперсник Тургенева, Павел Васильевич несомненно и субъективно сердился на Достоевского за конфликты с автором "Дыма".
С очень давнего момента - разрыва молодого писателя с кружком Белинского - многие его, того давнего кружка, участники приняли за правило насмехаться - обычно не очень-то мягко - над болезненным самомнением дутой литературной величины, вообразившей себя чуть ли не гением (что именно это "вообразил" после "Бедных людей" и сам Белинский, разумеется, обходилось молчанием), над его забавной манией величия и т. п. Зашутились так крепко, что Достоевский уже считал пали в заборе Омского острога, а И. И. Панаев еще продолжал печатать фельетоны о его непомерном самолюбии (фамилия тщеславного литератора, понятно, уже не называлась - цензура бы не пропустила).
Вот и теперь П. В. Анненкову внезапно вспомнилось следующее, что он и напечатал в "самом главном" журнале русского либерализма: "...Достоевский выслушивал наставления критика благосклонно и равнодушно. Внезапный успех, полученный его повестью, сразу оплодотворил в нем те семена и зародыши высокого уважения к самому себе и высокого понятия о себе, какие жили в его душе. Успех этот более чем освободил его от сомнений и колебаний, которыми сопровождаются обыкновенно первые шаги авторов: он еще принял его за вещий сон, пророчивший венцы и капитолии. Так, решаясь отдать роман свой в готовившийся тогда альманах, автор его совершенно спокойно, и как условие, следующее ему по праву, потребовал, чтоб его роман был отличен от всех других статей книги особенным типографским знаком, например,- каймой. Роман и был действительно обведен почетной каймой в альманахе".
Федор Михайлович, занятый в эти дни переездом в Старую Руссу, возможно, и не заметил этого, безусловно, очень злого выпада. Но Суворин, всячески подчеркивавший в ту пору свою близость к великому писателю и преклонение перед ним, оказался начеку. Тем более, что и проверка была несложной. В № 1473 "Нового времени" его редактор-издатель процитировал злополучное место и добавил:
"Так уверяет г. Анненков, желая выставить самомнение г. Достоевского как можно рельефнее, обвести его, так сказать, особой каймой, в отличие от других начинающих авторов, отличающихся скромностью. Мы взяли "Петербургский сборник" 1846 г. и увидели, что г. Анненков это обстоятельство сочинил, вероятно, по свойственному ему добродушию. "Бедные люди" напечатаны без всякой каймы, тем же самым шрифтом, как и другие статьи этого сборника. Таким образом, П. В. Анненкову надо покаяться, а вместе с ним и "Вестнику Европы". Это прискорбно будет для таких тузов".
Мемуарист и редакция каяться не стали, а заявили в следующем номере журнала, что речь шла не о "Бедных людях", а о другом произведении молодого Достоевского (которое, впрочем, не было написано), предназначавшемся для другого альманаха, который, однако, не вышел. Объяснение выглядело крайне неуклюжим, и Достоевский, конечно, был благодарен Суворину. Он попросил дать в "Новом времени" еще несколько слов, оставляя их редакцию на волю газеты. И в мае они были напечатаны:
"Ф. М. Достоевский, находясь в Старой Руссе, где он лечится, просит нас заявить от его имени, что ничего подобного тому, что рассказано в "Вестнике Европы" П. В. Анненковым насчет "каймы", не было и не могло быть..."
Федор Михайлович собирался, если придется встретиться с Анненковым в Москве, не подавать ему руки. Этот дуэльный замысел не осуществился: встретились они там в тот миг, когда Павел Васильевич восторженно и почтительно поддерживал Достоевского под руку, пока тот, страшно уставший, выходил с эстрады после своей знаменитой речи (по другую руку Федора Михайловича поддерживал сам Иван Сергеевич Тургенев). Все это оказалось минутным миражом, вскоре развеявшимся, но ведь был же такой, хоть краткий миг - запомнили современники...
Между тем, подробности будущего праздника выяснились в переписке людей, причастных к его организации (здесь хозяевами, естественно, прежде всего чувствовали себя москвичи), но никто, видимо, еще не представлял, во что он выльется. 5 мая Федор Михайлович пишет С. А. Юрьеву уже довольно определенно, хотя у него все еще немало вопросов:
"Я хотя и очень занят моей работой, а еще больше всякими обстоятельствами, но, кажется, решусь съездить в Москву по столь внимательному ко мне приглашению Вашему и глубокоуважаемого Общества Любителей Русской словесности. И разве только какое-нибудь внезапное нездоровье или что-нибудь в этом роде задержит.
...Насчет же "Слова" или речи от меня, то об этом еще не знаю, как сказать. По Вашему письму вижу, что речей будет довольно и все такими выдающимися людьми. Если скажу что-нибудь в память величайшего нашего поэта и великого русского человека, то боюсь сказать мало, а сказать побольше (конечно, в меру), то после речей Аксакова, Тургенева, Островского и Писемского найдется ли для меня время".
Однако речь уже готовится. При этом Федор Михайлович уже придает ей значение программного, почти партийного идейного документа, который должен сформулировать мысли единомышленников. Победоносцеву пишется (19 мая): "Пушкин именно выражает идею, которой мы все (малая кучка пока еще) служим. И это надо отметить и выразить..."
Увы, одним из самых горьких разочарований после кратковременной московской эйфории у Федора Михайловича будет то, что те, кого он причислял к духовно наиболее близким, единомышленниками-то никак не окажутся. Реакцию либералов он, в общем, представлял (опять-таки кроме краткого мига опьянения в первопрестольной). Но насколько внутренне далеки окажутся от сути его пушкинской речи Победоносцев, Катков, Леонтьев и даже Аксаков, этого он заранее представить не мог и даже, убедившись со временем в этом, постарался не особенно далеко пропускать это обстоятельство в свою душу (хотя самообман был здесь уже невозможен).
Первоначально Анна Григорьевна собиралась сопровождать мужа в старую столицу... Но тут же нахлынули все те же - всю жизнь одни - соображения. Детей надо брать с собой, туалеты - хочешь не хочешь - шить придется - все лишние деньги. Поездка предполагалась относительно короткой, с неделю, а расходы выходили немалые. Потом же, когда выяснилось, что отсутствие мужа в Старой Руссе растянулось на 22 дня, Анна Григорьевна, хотя и ликовала, конечно, при вестях о его триумфах, но и напереживалась тоже не на три недели.
"Я просила моих московских друзей, в случае, если с Федором Михайловичем произойдет припадок, тотчас мне телеграфировать, и я тогда выехала бы с первым поездом. Дни шли за днями, открытие памятника откладывалось, неприятные для Федора Михайловича обстоятельства (судя по письмам) нарастали, а вместе нарастали и мои душевные страдания. Даже теперь, после такого долгого промежутка, я не могу вспомнить об этом времени без тягостного чувства".
Только что простившись с семьей, еще не доехав до Москвы, Федор Михайлович узнает, что весь заранее намеченный порядок торжественных мероприятий рушится - из-за смерти жены императора.
В первом письме домой об этом сказано:
"Милый друг мой Аня, ты представить не можешь, как меня расстроило дорогой известие о кончине императрицы (мир ее душе, помолись за нее).* Услышал я про нее в вагоне, только что выехали из Новгорода, от пассажиров. Сейчас у меня явилась мысль, что празднества Пушкину состояться не могут. Думал даже вернуться из Чудова, но удерживался от неведения: "Если празднеств - дескать - не будет, то могут открыть памятник без празднеств, с одними литературными заседаниями и речами". И вот только 23, уже выехав из Твери, купил Москов. ведомости и в них прочел извещение от генерал-губернатора Долгорукого, что государь повелел отложить открытие памятника "до другого времени". Таким образом, приехал в Москву уже совсем без цели. Думаю выехать во вторник, 28, утром в 9 часов".
* (Федор Михайлович был, разумеется, совершенно искренен в своей скорби об умершей - и не он один. Непримиримый революционер П. А. Кропоткин вспоминал: "Из всей императорской фамилии, без сомнения, наиболее симпатичной была императрица Мария Александровна. Она отличалась искренностью, и когда говорила что- либо приятное кому, то чувствовала так... Она, без сомнения, не была счастлива в семейной жизни. Не любили ее также и придворные дамы, находившие ее слишком строгой: они не могли понять, отчего это Мария Александровна так близко принимает к сердцу "шалости" мужа... Ее дружба с Ушинским спасла этого замечательного педагога от участи многих талантливых людей того времени, то есть от ссылки".)
Анна Григорьевна тоже не сомневалась, что скоро увидит мужа: "Милый Федор Михайлович, мы слава богу все здоровы и ждем тебя обратно, так как открытие памятника отложено. Детки кланяются тебе и целуют".
Но в Москве события разворачивались иным образом. На вокзале Федора Михайловича встретила чуть не вся редакция "Русской мысли" (характерно, что не "Русского вестника", где ведь в это время печатался роман Достоевского) во главе с Юрьевым и издателем журнала богатым купцом Вуколом Лавровым, страстным почитателем автора "Карамазовых". Они увезли Федора Михайловича в Лоскутную гостиницу ("на Тверской, сейчас близ площади, где Иверская божия матерь"), устроили там и объявили, что сегодня же состоится обед в честь гостя ("Эти все московские молодые литераторы восторженно хотят со мной познакомиться").
Уже собираясь отправить письмо жене, Достоевский вынужден распечатать его, чтобы дописать новости: "...пришел ко мне Иван Серг. Аксаков с тем, чтобы настоятельнейшим образом просить меня остаться на открытие, так как оно произойдет, как все ожидают, до 5-го. Он говорит, что мне нельзя уехать, что я не имею права на то... Юрьев (у которого я сегодня обедаю), говорил то же самое. Долгорукий сегодня (25-го) уехал в Петербург и дал слово прислать телеграмму из Петербурга о точном дне открытия памятника... Я решил так: остаться ждать телеграммы о дне открытия, и если действительно открытие назначено между 1-м и 5-м июня, то остаться. Если же позже, то уехать в Руссу 28-го или 29, об этом и сообщил Юрьеву".
В следующем письме, написанном ночью, Достоевский пересказывал Анне Григорьевне подробности этого обеда в "Эрмитаже".
"Было 4 профессора университета, один директор гимназии Поливанов (друг фамилии Пушкиных), Иван Сергеевич Аксаков, Николай Аксаков, Николай Рубинштейн (московский) и проч., и проч. Обед был устроен чрезвычайно роскошно... Сказано было мне (с вставанием с места) 6 речей, иные очень длинные. Говорили Юрьев, оба Аксаковы, 3 профессора, Николай Рубинштейн... Говорилось о моем "великом" значении как художника, "всемирно отзывчивого", как публициста и русского человека.
...Когда же я объявил, что уезжаю 27-го, то поднялся решительный гам: "Не пустим!", "...Вся Москва будет в огорчении и негодовании на вас, если вы уедете",- говорили они мне все. Я отговаривался, что мне надо писать Карамазовых; они серьезно стали кричать о депутации к Каткову просить отложить мне срок. Я стал говорить, что ты и дети будут беспокоиться, если я так надолго останусь, и вот (совсем не в шутку) не только предложили послать к тебе телеграмму, но даже депутацию в Старую Руссу к тебе, просить тебя, чтоб я остался".
Судьба совсем не часто баловала Федора Михайловича подобными подарками, и чего естественнее, что он делится ими с женой. Однако в следующем письме чувствуется даже некоторый испуг, ибо Федору Михайловичу кажется, что он в качестве почетного гостя ненароком попал в весьма неловкое и даже, пожалуй, стыдное положение. Это письмо весьма важно для понимания человеческого характера Достоевского.
"...опять новости. Когда я приехал, меня тогда Юрьев и Лавров препроводили в гостиницу Лоскутную, и я тогда занял 32-й № за 3 руб. На другое утро явился ко мне управляющий гостиницей (еще молодой человек, имеющий вид образованного господина) и нежным голосом предложил мне перебраться в другой № напротив, 33-й. Так как № 33-й был несравненно лучше моего 32-го, то я тотчас же согласился и перебрался. Подивился только про себя, как такой хороший № ходит по той же цене, т. е. по три рубля; но так как управляющий ничего не говорил о цене №, а просто просил перебраться, то я и заключил, что тоже в три рубля. Вчера, 26-го, я обедал у Юрьева, и вот Юрьев вдруг говорит, что в Думе я записан в Лоскутной гостинице № 33-й. Я удивился и спрашиваю: почему знает Дума? - Да ведь вы же стоите на счет Думы, ответил Юрьев. Я закричал, Юрьев начал твердо возражать, что я не могу иначе поступить, как приняв от Думы помещение, что все гости стоят на счет Думы, что дети даже Пушкина, племянник Пушкина Павлищев (стоит в нашей гостинице) - все на счет Думы, что отказавшись принять гостеприимство Думы, я оскорблю ее, что это наделает скандалу, что Дума гордится, считая в числе гостей своих людей, как я и проч. Я решил, наконец, что если и приму от Думы квартиру, то не приму ни за что содержания. Когда я воротился домой, то управляющий опять ко мне зашел спросить: всем ли я доволен, не надо ли мне еще чего-нибудь, покойно ли мне - все это с самой подобострастною вежливостью. Я тотчас спросил его: правда ли, что я стою на счет Думы? - Точно так-с.- А содержание?- И все содержание Ваше тоже-с от Думы.- Да я этого не хочу!- В таком случае вы оскорбите не только Думу, но и весь город Москву. Дума гордится, имея таких гостей, и проч. Что мне теперь, Аня, делать? Не принять нельзя, разнесется, войдет в анекдот, в скандал, что не захотел, дескать, принять гостеприимство всего города Москвы и проч. ...Теперь буду нарочно ходить обедать в рестораны, чтоб, по возможности, убавить счет, который будет представлен гостиницей Думе. А я-то два раза уже был недоволен кофеем и отсылал его переварить погуще: в ресторане скажут: ишь на даровом-то хлебе важничает. Два раза спросил в конторе почтовые марки: когда представят потом счет Доме, скажут: ишь, обрадовался, даже марки на казенный счет брал!"
Комментировать это письмо, по-моему, излишне.
Между тем, в первопрестольную собирался весь цвет тогдашней русской литературы. Не без исключений, конечно: ссылаясь на болезнь, не покинули Петербурга Гончаров и Салтыков-Щедрин. Гончарову, видимо, действительно нездоровилось, руководитель же "Отечественных записок" считал принципиально недопустимым хотя бы временное единение лагерей демократического, либерального и, возможно, даже части реакционного - под любым самым внешне благовидным предлогом. Не присутствовал и Лев Толстой, хотя Тургенев специально ездил приглашать его в Ясную Поляну. С точки зрения великого писателя, переживавшего решительный духовный кризис своего мировоззрения, с той точки зрения патриархального крестьянина, на которую он становился, все эти литературные игрища праздных обеспеченных людей казались скверным баловством, не имеющим никакого отношения к подлинной жизни народа, придуманном словно для издевательства над его насущными нуждами...
Но известных представителей интеллигенции (либерального, преимущественно, толка) собиралось в самом деле немало, и Федор Михайлович боялся, как бы они не присвоили себе Пушкина, симптомом чего, как он сообщал Победоносцеву, он считал, что в Москве "профессора ухаживают... за Тургеневым". Анну Григорьевну Достоевский с каждым днем все настойчивее убеждает, что уезжать ему домой никак нельзя, так как выпадает ему в предстоящих событиях роль, отказаться от которой - малодушие, "ибо враждебная партия (Тургенев, Ковалевский и почти весь университет) решительно хотят умалить значение Пушкина как выразителя русской народности, отрицая самую народность. Оппонентами же им, с нашей стороны, лишь Иван Серг. Аксаков (Юрьев и прочие не имеют весу), но Иван Аксаков и устарел, и приелся Москве. Меня же Москва не слыхала и не видала, а стало быть, и наша сторона восторжествует. Я всю жизнь за это ратовал, не могу теперь бежать с поля битвы".
И Анна Григорьевна, как ей ни трудна разлука, поддерживает его планы: "Разумеется, дорогой мой Федичка, ты должен остаться на открытие, даже если б оно совершилось 10-го. В самом деле, это было бы слишком неловко не поприсутствовать на празднике. Положим, золотой мой, мы по тебе скучаем, но что же делать".
Достоевской тяжело и одиноко, тем не менее она, как обычно, ищет, нельзя ли извлечь чего-нибудь положительного даже из неприятной ситуации. Анна Григорьевна - страстная собирательница автографов. (Страстная? Да нет, это слово тут мало подходит. Но она с некоторого времени занимается этим "хобби" - научное значение такого собирательства тогда понималось немногими,- и, уж если занялась, то действует упорно и последовательно). И она пользуется пребыванием мужа в Москве: "Да подумай, кстати, и об автографах, напр., у Новиковой - Гладстона, у Аксакова - Гоголя, у Павлищева - Пушкина. Не съездишь ли ты к старичку Муравьеву-Апостолу Матвею Ивановичу, он всегда был таким твоим почитателем. Мог бы ты попросить у него письмо Муравьева".
Кой-какие (с сегодняшней точки зрения - бесценные) автографы для жены Федор Михайлович достал (сам он к этому собирательству был почти равнодушен). Но когда через несколько дней, убедившись, что супруг в Москве, действительно, застрял, она обратилась к нему с просьбой похлопотать "заодно" об одном совсем нелитературном, но довольно канительном деле, Достоевский весьма решительно отмахнулся. Он не хотел даже на время выходить из сферы литературно-идейной, которая в преддверии праздника начала накаляться.
"Московские ведомости" напечатали какую-то очередную реакционную гадость, и организаторы торжеств официально отлучили влиятельнейшую газету города от участия в празднике. До этого редакция, как и прочие московские газеты и журналы получила приглашение в лице своих представителей участвовать в пушкинских заседаниях Общества любителей российской словесности. Теперь это приглашение публично отменялось письмом в редакцию "Московские ведомости".
"Комиссия Общества любителей российской словесности удержала одно место для депутата от "Русского вестника". По ошибке послано приглашение и в редакцию "Московских ведомостей" - приглашение, несогласное с словесным решением комиссии. Председатель Общества любителей российской словесности Сергей Юрьев".
Это была пощечина. Каткозская газета с ее официальным ура-патриотизмом ответила на нее тем, что ни одной информационной строчкой не откликнулась на открытие в городе первого памятника великому русскому поэту.
Другое проявление предпраздничной борьбы задело Федора Михайловича лично. У Тургенева собрались наиболее авторитетные литераторы-гости, чтобы окончательно обговорить программу и порядок выступлений. Трудно представить, чтобы Достоевского кто-нибудь сознательно хотел обидеть, но, наверно, побоялись возникновения каких-либо трений между двумя корифеями, и Федора Михайловича "забыли" предупредить о совещании. Он жалуется жене:
"...чтение Скупого рыцаря у меня взято, взято тоже и чтение стихов на смерть Пушкина (а я именно эти-то стихи и желал прочесть)*. Взамен того мне определено прочесть стихотворение Пушкина "Пророк". От "Пророка" я, пожалуй, не откажусь, но как же не уведомить меня официально? ...Меня же просят прибыть в Благородное собрание уже на генеральную репетицию, с публикой, и главное с воспитанниками гимназий (бесплатными), и репетиция, главное, устраивается для них, чтоб и они могли слышать. Таким образом, я поставлен в прещекотливое положение: решено без меня, моего согласия на чтение назначенных мне сочинений не спрашивали, а между тем нельзя не быть на репетиции и не прочесть для молодежи: скажут, Достоевский не хотел читать для молодежи".
* (Имеется в виду известное стихотворение Ф. И. Тютчева.)
Однако в целом настроение у Федора Михайловича приподнятое, и атмосфера его окружает предпраздничная. Большинство москвичей относится к нему чуть не с благоговением, да и старые приятели вдруг почувствовали новый прилив дружбы. "Григорович остался, не намеревался уходить. Начал мне рассказывать разные разности за все тридцать лет, вспоминать старое и проч. Наполовину, конечно, врал, но было и любопытно. Затем в 5-м часу объявил, что разлучаться со мною не хочет, и стал упрашивать меня вместе идти обедать. Мы пошли отсюда в Московский трактир, где обедали долго, а он все говорил".
Даже "Тургенев со мною был довольно мил..."
Наконец, официальные разрешения от двора были получены, сроки и порядок торжества окончательно установлены. Интерес к нему в городе громадный. "Окна домов, окружающих площадь, отдаются в наем по 50 рублей за окно. Кругом устанавливаются деревянные эстрады для публики тоже за непомерную цену".
Празднество началось утром 6 июня, когда после обедни и панихиды в Страстном монастыре, при огромном стечении публики, при несмолкаемых криках и рукоплесканиях с памятника было сдернуто покрывало.
Это было единственным "уличным" мероприятием торжеств, на которое было получено разрешение, несмотря на траур по императрице. Все остальные происходили в залах, что, разумеется, ограничивало демократический характер праздника.
Как свидетельствует Н. Н. Страхов., "первый день состоял из торжественного заседания в университете и из обеда, который московская дума давала депутатам. От памятника все отправились в университет. Здесь академики и профессора читали свои статьи; в этих статьях были интересные факты, точные подробности и верные замечания, но вопрос о Пушкине не был поднимаем во всем объеме".
Ректор Московского университета, крупный историк литературы Н. С. Тихонравов объявил "почетными членами университета", как лиц, особенно много сделавших для освещения пушкинского творчества, Грота, Анненкова и Тургенева.
Отсутствие Достоевского в этом ряду, наверно, было замечено многими.
Вообще первые два дня праздника из участвующих в нем современных литераторов, бесспорно, первенствует Иван Сергеевич Тургенев. "Пушкин сливается с Тургеневым", - вспоминала совсем молодая тогда писательница Е. П. Леткова-Султанова.
Это, конечно, не значит, что Достоевский остается в стороне. Нет, он тоже один из героев праздника. Еще до произнесения знаменитой речи, 7 июня, на литературном обеде ему кричат "ура". "Затем вся эта толпа бросилась со мной по лестнице и без платьев и без шляпы вышли за мной на улицу и усадили меня на извощика".
Но он-то знает, что его главный день, его звездный час еще не пришел.
Ночью он пишет жене:
"Завтра, 8-го, мой самый роковой день: утром читаю статью, а вечером читаю 2 раза, Медведицу и Пророка".
"Завтра мой главный дебют. Боюсь, что не высплюсь. Боюсь припадка".
В этом же письме выражает резкое недовольство речью Тургенева, в которой тот, дескать, "унизил Пушкина, отняв у него название национального поэта".
Это неточно. Иван Сергеевич говорил о творчестве Пушкина, о его человеческом облике с громадной любовью и уважением. Но у него, действительно, проскользнуло некоторое сомнение: "Название национально-всемирного поэта... мы не решимся дать Пушкину, хотя и не дерзаем его отнять у него".
Однако в завтрашней речи Достоевского не было литературной полемики. Она вообще антиполемична, ибо направлена на всеобщее примирение.
Конечно, возможность такого примирения была в высшей степени иллюзорна. Но сказали же мы, как в тот момент пахло весной, и обманулись многие. Поэтому литературный праздник на минуту - только на минуту - превратился в общественное ликование, в какую-то оргию надежд.
Впрочем, в знаменитой речи - не только абстрактный призыв к примирению врагов. В этом случае она осталась бы в истории лишь как пример заблуждения, столь ярко выраженного, что вызвало массовую галлюцинацию. Между тем, в речи, несомненно, есть и очень серьезное позитивное содержание - стали бы ее иначе так вспоминать столетие!
Начнем с того, что Федор Михайлович снял несколько академический налет празднества, целиком повернув его к современности. Об этом хорошо сказал Глеб Успенский, из которого Салтыкову-Щедрину долго потом пришлось выбивать обаяние речи Достоевского. Вот что написал Глеб Успенский по свежим следам:
"...Никто не подозревал, чтобы эта же "современность" могла завладеть всем существом, всей огромной массой слушателей, наполнявшей огромный зал Дворянского собрания, и что это совершит тот самый Ф. М. Достоевский, который все время "смирнехонько" сидел, притаившись около эстрады и кафедры, записывая что-то в тетрадке.
Когда пришла его очередь, он "смирнехонько" взошел на кафедру, и не прошло и пяти минут, как у него во власти были все сердца, все мысли, вся душа всякого без различия, присутствовавшего в собрании. Говорил он просто, совершенно так, как бы разговаривал с знакомыми людьми... Просто и внятно, без малейших отступлений и ненужных украшений, он сказал публике, что думает о Пушкине, как выразителе стремлений, надежд и желаний той самой публики, которая слушает его сию минуту, в этом же зале. Он нашел возможным, так сказать, привести Пушкина в этот зал...
...Всеобщее внимание было поражено и поглощено стройно выраженною мыслью о врожденной русскому человеку скорби о чужом горе.
Положительно известно, что тотчас по окончании речи г. Достоевский удостоился не то, чтобы овации, а прямо идолопоклонения..."
А вот как описывает начало чтения Федора Михайловича другой свидетель (Д. Н. Любимов, сын редактора "Русского вестника"):
"Достоевский поднялся, стал собирать свои листки и потом медленно подошел к кафедре, продолжая нервно перебирать листки, видимо, список своей речи, которым, кстати сказать, он потом почти не пользовался.
...Достоевский, встреченный громом рукоплесканий, взойдя на кафедру,- я помню ясно все подробности,- протянул вперед руку, как бы желая их остановить. Когда они понемногу смолкли, он начал прямо, без обычных "милостливые государыни, милостливые государи", так:
- Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое.
Первые слова Достоевский сказал как-то глухо, но последнее каким-то громким шепотом, как-то таинственно. Я почувствовал, что не только я, но вся зала вздрогнула и поняла, что в слове "пророческое" вся суть речи, и Достоевский скажет что-либо необыкновенное".
Существует много описаний того "идолопоклонения", которое возникло после окончания речи Достоевского. Сам он той же ночью так описывает его Анне Григорьевне:
"Нет, Аня, нет, никогда ты не можешь представить и вообразить того эффекта, который произвела она! Что петербургские успехи мои! Ничто, нуль сравнительно с этим! ...Прерывали решительно на каждой странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплесканий... Когда же я провозгласил в конце о всемирном единении людей, то зала была как в истерике, когда я закончил - я не скажу тебе про рев, про вопль восторга... Люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить. Все ринулись ко мне на эстраду: гранд-дамы, студентки, государственные секретари, студенты - все это обнимало и целовало меня... "Пророк, пророк!"- кричали в толпе, Тургенев, про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился обнимать меня со слезами. Анненков подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо... Аксаков (Иван) вбежал на эстраду и объявил публике, что речь моя - есть не просто речь, а историческое событие! ...С этой поры наступает братство и не будет недоумений. Да, да! Закричали все и вновь обнимались, вновь слезы".
Великий писатель так верил в слово, так высоко ставил его, что на минуту ему почудилось: слово, речь действительно может заложить фундамент всеобщего братства, установить новые отношения между людьми.
И. С. Аксаков сгоряча объявил, что никаких больше выступлений не надо, все выяснено и объяснено. Однако его, как и других готовившихся ораторов, все же заставили выступать. Но слушали их, действительно, вполуха, в зале и кулуарах продолжали обсуждать речь Достоевского. (Один из свидетелей ехидно замечает: "Ораторы, говорившие во второй части, принесли явную жертву своей добросовестности"). Н. Н. Страхов сообщает: "В конце заседания на эстраде вдруг появилась группа дам; они принесли огромный венок Достоевскому. Его упросили взойти на кафедру, сзади его, как рамку для головы, держали венок, и долго не смолкали рукоплескания всей залы". Этот эпизод, как рассказывает Анна Григорьевна, имел такой финал: вернувшись в Лоскутную, муж "в полном изнеможении прилег... отдохнуть, а затем, уже поздно ночью, поехал опять к памятнику Пушкина. Ночь была теплая, но на улицах почти никого не было. Подъехав к Страстной площади, Федор Михайлович с трудом поднял поднесенный ему на утреннем заседании венок, положил его к подножию памятника своего "великого учителя" и поклонился ему до земли".
При той огромной радости, которое принесли Достоевскому такое ликующее одобрение его заветных идей, оно вызывало в глубине души у Федора Михайловича известное недоумение. Один из администраторов праздника, привезший в гостиницу знаменитый венок, запомнил, как писатель повторял: "Чем объяснить такой успех? Никак не ожидал..."
А зашедшей к нему час спустя жене председателя праздничной комиссии М. А. Поливановой Федор Михайлович сказал еще прямее: "Боюсь я только, что это все скоропреходящее, что это временно".
Так оно, разумеется, все и обернулось, и два месяца спустя, выпуская "Дневник писателя" с речью о Пушкине, Достоевский не утрировал обвинения печати, излагая их таким образом: "...и трус-то я, и поэт-то я, и ничтожество-то я, и нулевое-то значение имеет моя речь..."
Но на первых порах речь Федора Михайловича все-таки в самом деле до известного предела примирила с ним многих его противников. Тургенев специально объясняет ему, автору романа, печатающегося в "Русском вестнике", свой знаменитый жест, которым он отказался чокнуться своим бокалом о бокал, протянутый ему на литературном обеде Катковым. М. М. Ковалевский свидетельствует: "Ведь есть вещи, которых нельзя забыть,- доказывал он в тот же вечер Достоевскому,- как же я могу протянуть руку человеку, которого я считаю ренегатом?"
Вряд ли бы раньше (да и позже) Иван Сергеевич пустился бы в такие объяснения с Федором Михайловичем.
В общем, в некотором - но только в некотором - смысле был прав К. Н. Леонтьев, сказавший: "Каждый, надо думать, понимал по-своему слова Достоевского и, аплодируя ему, аплодировал самому себе, своему собственному взгляду, который, думалось ему, вот, мол, хотел выразить Достоевский".
В принципе в основном содержании речи о Пушкине не было ничего принципиально нового для мировоззрения Достоевского. В предисловии к речи в выпуске "Дневника писателя" он излагает четыре основных пункта этого содержания. Тезисно они выглядят так.
Значение Пушкина состоит в
1) указании на бесплодность существования оторвавшейся от народа русской интеллигенции;
2) предсказании, что красота и сила народного духа излечат эту бесплодность;
3) в том, что Пушкин обладал всевосприимчивостью к мировой культуре, к духовной жизни любого народа;
4) эта восприимчивость - черта национальная и пророческая, указывающая на историческую миссию русского народа в установлении всемирного братства.
Но если тут не было принципиальной новизны, то имелись очень важные оттенки, которые и были уловлены аудиторией.
Да, Достоевский осуждает "бесплодное скитальчество" оторванной от народа интеллигенции, но как, в каких выражениях? Так, что эта часть речи неожиданно становится чуть не гимном молодежи, идущей на борьбу за всеобщее счастье. Вот это место речи, ставшее едва ли не самым ударным в ней: "...русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество и еще долго, кажется, не исчезнут. И если они не ходят уже в наше время в цыганские таборы искать у цыган в их диком своеобразном быте своих мировых идеалов и успокоения на лоне природы от сбивчивой и нелепой жизни нашего русского - интеллигентного общества, то все равно ударяются в социализм, которого еще не было при Алеко, ходят с новою верой на другую ниву и работают на ней ревностно, веруя, как и Алеко, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного. Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться, дешевле он не примирится..."
Эти слова были встречены громоподобными аплодисментами. Потом, кое-кто из передового лагеря засомневался: да мог ли автор "Бесов" всерьез, с патетикой, сказать такое? И в словах "дешевле он не примирится" начали находить "дьявольскую иронию". Между тем, нельзя сомневаться, что в своем пафосе Достоевский был абсолютно искренен (возможно, тоже несколько неожиданно для себя). "Дьявольская ирония" тут также несомненно присутствовала, но в чей адрес? Она явно направлена не против скитальцев - Дон-Кихотов, а против приземленного "здравого смысла" практичных и рассчетливых бакалавров Карраско, искренне не способных понять, как это можно отдавать жизнь за какое-то там "всемирное счастье", счастье людей, которых и в глаза-то никогда не увидишь.
Как обычно, Достоевский избегает обязывающе точных формулировок, и передовая молодежь при желании могла многое принять в речи, как свое, как сказанное о ней. Например: "Нет, русская женщина смела. Русская женщина пойдет за тем, во что поверит, и она доказала это". Разве не могли применить эти слова к себе Софья Перовская и Вера Фигнер?
Или вот это положение: "Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите".
Наконец, и знаменитые, наиболее "сомнительные", столько раз потом разоблачавшиеся слова: "Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве" - и они вовсе не обязательно должны истолковываться в прямолинейно реакционном духе (современная реакционная печать так их и не принимала). Очевидно ведь, что оратор говорит не о смирении перед самодержавным государством, а перед "народным духом", толковать который можно очень широко. И труд на родной ниве может тоже быть очень разный и вовсе не обязательно одобряемый бюрократической властью.
В конце концов, смирившись перед необходимостью совершить дело во имя народа, дело лично им вовсе не привлекательное, забыв не то, что о праздности, но и о минуте отдыха, забыв об интеллигентской гордыне, трудились народовольцы, до кровавого пота, до обморока, ведя тот знаменитый подкоп к линии Московско-Курской железной дороги...
Упаси бог думать, что сам Достоевский вкладывал в свой призыв сколько-нибудь похожий смысл. Но, при желании, вложить и такой смысл не являлось невозможным.
Однако все-таки известная недосказанность речи у части передовой молодежи, жаждавшей полной определенности, вызывала недовольство и раздражение. И. С. Аксаков через неделю писал О. Ф. Миллеру: "...в первую минуту никто не спохватился, а потом, уже к вечеру Ковалевские, Глебы Успенские и т. п. повесили носы, вероятно, выругали себя сами за то, что "увлеклись", и стали думать о том, как бы сгладить, стушевать и перетолковать в свою пользу все случившееся. Мне передавали сами студенты возникшие между ними потом разговоры: "А ведь знаете, господа, куда мы с нашим восторгом по поводу Достоевского влетим: в мистицизм!"
Однако дороги "в мистицизм" от речи о Пушкине не было. Реакции - при всей расплывчатости формулировок писателя - взять для себя из этого его манифеста было почти нечего. Катков заплатил за публикацию речи в "Московских ведомостях" 600 р., но над ее успехом посмеивался, говоря: "Какое же это событие?"
Константин Леонтьев броско противопоставлял нашумевшую речь Достоевского другой речи, к его сожалению, прошедшей почти незаметно для общества. Произнес ее "истинный христианин", занимающий государственную должность обер-прокурора Синода.
"Почти в то самое время, когда в Москве так шумно праздновали память Пушкина, ели, пили, убирали памятник венками, рукоплескали, плакали и даже падали в обморок, радуясь, что мы наконец-то "созрели" или вернее - перезрели до того, что нам остается только заклать себя на алтаре всечеловеческой (т. е. простой европейской) демократии, этот русский христианин, о котором я вспомнил, по должности своей, счастливо совпадающей с его чувствами и призванием, посетил далекую ярославскую епархию и там на выпуске в училище для дочерей священно- и церковнослужителей, состоявшем под покровительством в бозе почившей императрицы, сказал слово, которое "Московские ведомости" по справедливости назвали прекрасным и которое я желал бы назвать благородно-смиренным... В речи Победоносцева Христос познается не иначе, как через церковь: "любите прежде всего церковь". В речи г. Достоевского Христос, по-видимому, по крайней мере доступен всякому из нас, что мы считаем себя вправе, даже не справляясь с азбукой катехизиса, т. е., с самыми существенными положениями и безусловными требованиями православного учения, приписывать спасителю никогда не высказанные им обещания "всеобщего братства народов", "повсеместного мира" и "гармонии".
Великий гуманист Достоевский думал и говорил о возможности и необходимости создать для человека счастье на земле. И туг - непереходимая, непреодолеваемая черта, навсегда отделяющая его от лагеря реакции и мракобесия. Его представители и глашатаи, сознательно или бессознательно выражая взгляды и интересы кучки правящих классов, вполне довольных своим бытием в сей жизни, упорно повторяли, что для человечества в целом счастье на этом свете и невозможно, и нежелательно.
Все это очень старо и однообразно.
Вот что писал тогда известный реакционный романист, автор популярных в ретроградных читательских сферах антинигилистских сочинений Болеслав Маркевич (одновременно с занятиями благонамеренной беллетристикой он делал очень успешную придворную карьеру, но однажды за одну уж чересчур циничную взятку крупно погорел и в двадцать четыре часа был лишен камергерского ключа), вот что писал он все тому же К. Н. Леонтьеву:
"...Христианское разумение Ваше и чище, и плодотворнее его (Достоевского - П. К) любви, так как оно расцветает на чисто евангельской почве, не обещая немыслимых плодов в нашей долине слез, а указывая на возможность их лишь в небесных садах...
За каждый проблеск того, что человек называет счастьем, он должен платить самою тяжкою ценой, - а следовательно, что оно ему не присуще, что он не имеет на него права, пока он облечен плотью земною".
Сам же Константин Леонтьев мрачно изрекал нечто весьма подобное тому, что мы нередко слышим из определенного лагеря век спустя.
"Будет зло! - говорит церковь... Все здешнее должно погибнуть! И потому на что эта лихорадочная забота о земном благе грядущих поколений?"
Федор Михайлович несомненно собирался ответить на эти кликушества в будущем "Дневнике писателя" и записал в черновой тетради:
"Леонтьеву (не стоит добра желать миру, ибо сказано, что он погибнет). В этой идее есть нечто безрассудное и нечестивое. Сверх этого, чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода: уж коль все обречены, так чего же стараться, чего любить добро делать? Живи в свое пузо..."
После окончания празднеств Федор Михайлович в Москве не задерживался. Только по просьбе известного московского фотографа М. М. Панова, специально примчавшегося в Лоскутную, съездил с ним в его ателье и сфотографировался.
Мы должны быть глубоко благодарны Панову. Этот снимок, бесспорно, лучший из всех, на которых запечатлен писатель,- по словам Н. И. Крамского, во многом заменяет отсутствие живописного портрета позднего Достоевского, равного работе Перова. Снимок Панова передает масштаб интеллекта и характера Федора Михайловича на вершине его деятельности, а добиться этого под силу было только большому мастеру. Очень крупный и очень сложный человек смотрит на нас с этой фотокарточки, где он ничуть не приукрашен, устал, хмур - но зато прекрасно видно, каков размах его мыслей и чувств...
За три московские недели пришлось трудно расплачиваться. Во-первых, работы скопилось столько, что потом, окончив-таки "Карамазовых", Федор Михайлович в нескольких письмах относил эти месяцы к самым напряженным и изматывающим за всю свою рабочую жизнь. От поездки в Эмс (Достоевский некоторое время еще подумывал о ней) пришлось на этот раз отказаться, и это, несомненно, оказалось одной из причин, приблизивших, - может быть, значительно - смерть.
Федору Михайловичу предстояло много наверстывать по работе над рукописью. Но кроме того он решил выпустить единственный за год номер "Дневника писателя" с речью о Пушкине и некоторыми комментариями к ней. Почти вся печать поедом ела его теперь за московское выступление, и это было второй расплатой за овации в Благородном собрании. Оресту Миллеру из Старой Руссы Достоевский с горечью писал: "За мое же слово в Москве видите, как мне досталось от нашей прессы почти сплошь: точно я совершил воровство-мошенничество или подлог в каком-нибудь банке". Чтоб не растекаться мыслию по древу, автор "Дневника" направил почти весь свой полемический заряд против одного (из многих) враждебного истолкователя речи - либерального профессора А. Д. Градовского. Для большинства читателей эта полемика выглядела, наверно, чересчур личной и эмоциональной, хотя вполне возможно, что значительная часть молодежи разделяла возмущение писателя доктринерскими рассуждениями профессора о русском народе: "Ему еще много надо работать над собою, чтобы сделаться великим народом".
Доктринерство это граничило с цинизмом: да ведь этот народ и так тысячелетие работает, не покладая рук, "над собой" - и для вас!
Достоевский не удерживался в рамках логической дискуссии, пророчествовал (что несомненно вызывало снисходительные улыбки оппонентов): "...Она накануне падения, ваша Европа, повсеместного, общего и ужасного". "Неразрешимые политические вопросы... непременно должны привести к огромной, окончательной, разделочной политической войне, в которой все будут замешаны и которая разрешится в нынешнем еще столетии, может, даже в наступающем десятилетии".
В сравнительно спокойном по международным отношениям 1880 году среднему интеллигенту умеренных взглядов эти предсказания действительно могли казаться эсхатологическим бредом, однако, в сущности, все ведь и осуществилось - только на несколько десятилетий позже - Достоевский, как всегда, спешил.
(Если бы я был писателем-фантастом, то непременно попробовал бы использовать такой сюжет. Настоящий Федор Достоевский, сын Михаила Андреевича и Марии Федоровны, талантливейший беллетрист, автор "Бедных людей" и "Белых ночей", мечтатель-социалист, петрашевец, погибает в Омском остроге, например, после экзекуции, назначенной плац-майором Кривцовым и которую не успел остановить - как это произошло в действительности - комендант крепости де Граве. Но люди далекого-далекого будущего, давно овладевшие способностью путешествовать во времени, понимают, что человечество не сможет развиваться дальше, как ему должно, если не будут написаны "Преступление и наказание" и "Братья Карамазовы". Поэтому они подменяют погибшего молодого человека своим двойником - какой создан, этого уж нам не понять. Недаром встретивший в Семипалатинске Федора Михайловича П. П. Семенов, позже Тян-Шанский, писал потом, что Сибирь превратила Достоевского из талантливого литератора в гениального художника- мыслителя. Этот второй Достоевский, конечно, никогда не сомневается в своей, так сказать, подлинности, но где- то в подсознании у него случайно забыты создателями некоторые "воспоминания о будущем", и временами они заставляют писателя несколько путать хронологию - и он говорит об искусственном спутнике Земли, о страшном оружии, изобретенном в Америке, забывая, что все это будет уже после его смерти).
В целом полемика в "Дневнике писателя" несколько мельчила впечатление от такого выдающегося явления, как речь о Пушкине и, если взглянуть в корень дела, для глубинных целей писателя была не нужна. Но Достоевский не был бы Достоевским, если бы удержался от нее...
Однако следует оговориться, что суровая критика речи о Пушкине не только в либеральных изданиях вроде "Голоса", но и в авторитетнейших для своей аудитории "Отечественных записках", далеко не всю передовую молодежь сумела переубедить. Вот свидетельство студента Учительского института И. И. Попова, уже после 1 марта ставшего активным народовольцем:
"Но после знаменитой речи Достоевского на Пушкинских торжествах в Москве... наше отношение к нему изменилось... В конце концов, увлеченные общим порывом, мы даже в "Дневнике писателя" стали находить не только приемлемые, но и приятные для нас суждения... Так, в рассуждениях Достоевского о "сермяжной Руси", которую если призвать, то она устроит жизнь хорошо, так, как ей нужно, мы усматривали народническое направление, демократические тенденции... Этот перелом в отношениях молодежи к Достоевскому произошел в последний год его жизни".
В уже цитировавшемся письме О. Ф. Миллеру Федор Михайлович жаловался на невероятную загруженность: "Я здесь как в каторжной работе и несмотря на постоянно прекрасные дни, которыми надо бы пользоваться, сижу день и ночь за работой - кончаю Карамазовых. Кончу только к самому концу сентября и тогда возвращусь" (имеется в виду - в Петербург).
Но и с предсказаниями о сроках окончания своего очередного труда Достоевский тоже постоянно торопился. Ничего еще не кончено и в половине октября, нагрузка нарастает крещендо, и Федор Михайлович пишет П. Е. Гусевой (маленькой литераторше, за которую хлопотал): "Я был в каторге в Сибири 4 года, но там работа и жизнь была сноснее моей теперешней. С 15-го июня и по 1-ое октября я написал до 20 печатных листов романа и издал Дневник Писателя в 3 печат. листа. И однако я не могу писать сплеча, я должен писать художественно... А потому сидел и писал буквально дни и ночи. Верите ли, что я не могу и не имею времени прочесть ни одной книги и даже газет. Даже с детьми мне некогда говорить. И не говорю".
Всероссийский успех "Карамазовых" обязывал. М. А. Поливановой Федор Михайлович сообщает: "...по пяти раз переделывал и переправлял написанное. Не мог же я кончить мой роман кое-как, погубить всю идею и весь замысел".
И все же, несмотря на невероятную занятость, Федор Михайлович не смог отказать своей корреспондентке Ю. Ф. Абазе, ранее очень тронувшей его своими письмами, в просьбе прочесть рукопись ее повести. Дилетантская повесть Абазы имела фантастический характер: у ее героя было ледяное (буквально) сердце. Рукопись вызвала ответ писателя, крайне интересный и сам по себе рассуждениями о границах фантастического в литературе.
"...ведь фантастическое в искусстве имеет предел и правила. Фантастическое до того должно соприкасаться с реальным, что Вы должны почти поверить ему. Пушкин, давший нам почти все формы искусства, написал Пиковую даму - верх искусства фантастического... И вы верите, что Герман действительно имел видение и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем в конце повести, т. е. прочтя ее, Вы не знаете, как решить: вышло ли это видение из природы Германа или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром злых и враждебных человечеству духов".
Но особенно важно это письмо тем, что следующей же ночью Достоевский начал работать над главой "Черт. Кошмар Ивана Федоровича", в которой творчески воплотил с огромной мощью - свои представления о фантастическом в искусстве.
Федор Михайлович придавал этой главе громадное значение, и в то же время, как будто несколько стеснялся ее необычности, "нереальности", в сопроводительном письме Н. А. Любимову он почти извиняется: "...право, я не хотел оригинальничать. Долгом считаю однако Вас уведомить, что я давно уже справлялся с мнением докторов (и не одного). Они утверждают, что не только подобные кошмары, но и галюсинации возможны. Мой герой, конечно, видит и галюсинации, но смешивает их с своими кошмарами.
...Но простите моего Черта: это только черт, мелкий черт, а не Сатана с "опаленными крыльями". - Не думаю, чтоб глава была и слишком скучна, хотя и длинновата. Не думаю также, чтоб хоть что-нибудь могло быть нецензурно, кроме разве двух словечек; "истерические взвизги херувимов". Умоляю пропустите так: это ведь черт говорит, он не может говорить иначе. Если же никак нельзя, то вместо истерические взвизги поставьте радостные крики. Но нельзя ли взвизги? А то будет очень уж прозаично и не в тон".
В примечании к этом письму (Ф. М. Достоевский - Письма. IV. ГИХЛ, М., 1959). А. С. Долинин указывает: "На этот раз редакция согласилась с автором и оставила эти слова без изменения".
В данном случае замечательный ученый ошибается. В "Русском вестнике" было напечатано (и с тех пор во всех изданиях романа повторяется): "радостные взвизги херувимов". Это явно компромиссный вариант, т. е. на "взвизги" редакция еще решилась, но применить эпитет "истерические" по отношению к господним силам уже никак не могла.
Это, разумеется, серьезное, до сих пор не исправленное нарушение воли автора.
В образе Черта автор блистательно выдерживает свое требование тесного "соприкосновения" фантастического и реального. (Пожалуй, один Уэллс позднее умел добиваться похожего эффекта). "Посланец ада" в романе иронически прозаичен: "Это был какой-то господин или, лучше сказать, известного сорта русский джентльмен, лет уже не молодых... С не очень сильной проседью в темных, довольно длинных и густых еще волосах и в стриженной бородке клином. Одет он был в какой-то коричневый пиджак, очевидно от лучшего портного, но уже поношенный, сшитый примерно еще третьего года и совершенно вышедший из моды... Словом, был вид порядочности при весьма слабых карманных средствах".
"Бытовая" заурядность Черта не мешала ему иногда быть "дьявольски" остроумным и тонким - ведь он, по словам Ивана Федоровича, "воплощение меня самого", а Иван Карамазов - человек огромного ума. Может быть, гений. Но Черт - воплощение, говорит Иван, "только одной, впрочем, моей стороны... моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых".
В чем же "гадость и глупость" этих мыслей и чувств, внушаемой скверной стороной души Ивана? Ни на какие новые преступления Черт его не подбивает он лишь гипнотически настойчиво вдалбливает своей жертве мысль о тщетности всяких поисков, борьбы, творчества. Все было, все то же будет, всякие попытки что-либо изменить в мире только смешны. Единственно, что достойно мыслящего существа - это равнодушие, ну с некоторой долей иронии, чтоб уж совсем не заснуть.
Бог, если он есть (в чем черт не уверен), устроил вселенную и жизнь в ней скверно, скучно, и, главное, так сказать, формально. "Каким-то там довременным назначением, которого я никогда разобрать не мог, я определен "отрицать", между тем, я искренне добр и к отрицанию совсем не способен. Нет, ступай отрицать, без отрицания-де не будет критики... Без критики будет одна "осанна". Но для жизни мало одной "осанны", надо чтоб "осанна"-то эта переходила через горнило сомнений, ну и так далее, в этом роде".
Все повторялось биллионы раз; и земля, и небеса, и преисподняя, собственно, не так уж отличаются друг от друга, во всяком случае не настолько, чтобы стоило добиваться что-то изменить во вселенской иерархии. И в раю есть либералы и ретрограды, и в аду тот же хаос, тот же "беспорядок", что и на земле, в Европе и России 70-х годов. "Еще пока были атомы, пять чувств, четыре стихии, ну тогда кое-как клеилось. Атомы-то и в древнем мире были. А вот как узнали у нас, что вы там открыли у себя "химическую молекулу" да "протоплазму", да черт знает что еще - так у нас и поджали хвосты. Просто сумбур начался; главное - суеверие, сплетни; сплетен ведь и у нас столько же, сколько у вас, даже капельку больше, а наконец, и доносы, у нас ведь тоже есть одно такое отделение, где принимают известные "сведения".
На вопрос Ивана об адских муках Черт отвечает, что, дескать, раньше было так и сяк, а теперь больше пошло моральное - муки совести и т. п. "Ну и кто же выиграл, выиграли одни бессовестные, потому что ж ему за угрызения совести, когда и совести-то нет вовсе".
По мировой литературной традиции дьявол всегда выступал, как яростный бунтарь против существующего. Мечта созданного больным воображением Ивана Черта перевоплотиться (и окончательно) в тело семипудовой купчихи со всеми ее предрассудками "темного царства". Черт Иван - философ и убежденнейший сторонник вечного застоя.
Полуочнувшись, Иван Федорович как бы пытается восстановить для себя, для своего сознания, нарушенную традицию: "Но он не сатана, это он лжет. Он самозванец. Он просто черт, дрянной, мелкий черт. Он в баню ходит. Раздень его и наверняка отыщешь хвост,- длинный, гладкий, как у датской собаки, в аршин длиной, бурый..."
Иначе уж очень обидно получается: "Нет, я никогда не был таким лакеем! Почему же душа моя могла породить такого лакея, как ты?" Между тем хвостатый оппонент создателя "Легенды о великом инквизиторе" уверен: "...увидишь, как мы дружно с тобой уживемся..."
Но Черт, действительно, отражает и выражает лишь одну - и куда менее значительную, чем другие, сторону души Ивана Федоровича. Иван доказал это, заставив себя вырвать у Смердякова признание в убийстве, искренне и с ужасом разделив с презираемым им лакеем вину в этом (точнее, наверно, будет сказать, что он перевел понятие о своей вине из подсознания, где оно уже давно существовало, под ясный свет дневного сознания). То, что Иван Федорович является в суд с саморазоблачением - это вызов Черту, его философии пассивности. И Карамазов не виноват, что болезнь превращает его признание в глазах окружающих в не имеющий серьезного значения для выяснения истины трагический фарс.
Так, даже поначалу воспринимающийся как отвлеченно-философский, абстрактно-этический диалог, в этой главе несомненно имеет и конкретно-политический оттенок - призыв к немедленному решению драматических вопросов действительности, и это, несомненно, очень хорошо понималось читателями 1880 года.
И так обстоит дело с весьма многими эпизодами романа. Автор очень не любит "прелюбодея мысли" адвоката Фетюковича. Однако очевидно, что передавая его речь, Достоевский в данном случае сознательно стремился вызвать у читателя ассоциации между понятиями "физический отец" и "отец государства". По Достоевскому Фетюкович глубоко неправ и цинично запутывает дело, но он дает в романе логике адвоката полный простор.
"Недаром эта трибуна дарована вам высшее волею (с самого начала своей речи Фетюкович напоминает о царе - П. К.) - с нее слышит нас вся Россия. Не для здешних только отцов говорю, а ко всем отцам восклицаю: "Отцы, не огорчайте детей своих!"
...Скажем прямо: родивший не есть еще отец, а отец есть - родивший и заслуживший. О, конечно, есть и другое значение, другое толкование слова "отец", требующее, чтоб отец мой, хотя бы и изверг, хотя бы и злодеи своим детям, оставался бы все-таки моим отцом потому только, что он родил меня. Но это значение уже, так сказать, мистическое...
...если не докажет отец (сыну - что есть, за что любить его - П. К.), - конец тотчас этой семье: он не отец ему, а сын получает свободу и право впредь считать отца за чуждого себе и даже врагом своим.
...Нет, убийство такого отца не может быть названо отцеубийством. Такое убийство может быть причтено к отцеубийству лишь по предрассудку!"
Если взять политический смысл рассуждений адвоката, то Фетюкович, по сути, повторяет именно ту угрозу, которую Катков пронически вкладывал в уста либералу: либерал говорит правительству, кивая на революционера: уступи, а то он будет стрелять!
Но возникает еще одна ассоциация, пусть не прямая, но несомненная - между речью Фетюковича и одной из самых последних - довольно сердитых - черновых записей Федора Михайловича: "Я, как и Пушкин, слуга царю, потому что дети его, народ его не погнушаются слугой царевым. Еще больше буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему - дети. Что-то очень уж долго не верит".
Так долго, что может и опоздать.
...Десятая книга романа - "Мальчики", - как мы уже указывали, фабульно почти не связана с историей убийства старика Карамазова и его расследования. Однако автор вводит ее, конечно, не только из сюжетных соображений, для того, чтобы замедлить интригу. Ему важно хотя бы наброском показать будущих героев современности - самого конца 70-х годов показать их в начале их духовного развития, маршрут которого для Коли Красоткина, например, тем не менее вполне предопределен. Как и для самого Алеши Карамазова.
Коля говорит иной раз детски-наивные вещи, но ведь он же действительно мальчик, подросток. И он повзрослеет быстро.
"- Послушайте, Коля, вы, между прочим, будете и очень несчастный человек в жизни,- сказал вдруг отчего-то Алеша.- Знаю, знаю. Как вы это все знаете наперед! - тотчас же подтвердил Коля.
- Но в целом все-таки благословите жизнь.
- Именно! Ура! Вы пророк!"
И тут же Коля говорит Алеше, который старше его на пять-шесть лет: "...и вы точно я!"
По-моему, трудно понять этот диалог иначе, как разговор двух будущих революционеров. Точнее - будущих народовольцев. Возможно - участников цареубийства (не забывайте, что Алешу должны в новом романе казнить; значительная часть смертных приговоров выносилось за участие в подготовке покушения на царя).
В то время, как, по словам Черта, в аду имелось отделение, собиравшее "сведения", в России аналогичное отделение, учреждение знаменитейшее, существовавшее десятилетия, внезапно прекратило свое бытие (это не означает, разумеется, что "сведения" перестали собирать - собирали с двойной, тройной энергией)., III отделение было упразднено.
Это было одним из важных ходов Михаила Тариеловича. С чрезвычайной своей властью он расставаться отнюдь не собирался, но очень хотел замаскировать ее чрезвычайность. К тому же он, естественно, прекрасно понимал, сколько либерального ореола прибавит ему ликвидация столь нелюбимого публикой заведения.
Лорис-Меликов сам обратился к царю с предложением о роспуске Верховной распорядительной комиссии, которая все-таки и создана была как учреждение временное. Он считал, что сможет лучше осуществлять все возложенные на него государем важнейшие задачи на обычном законном посту министра внутренних дел. Однако он решительно полагал, что мвд должны бытьпереданы почти все функции политического сыска.
В связи с этим III отделение упразднилось, а в министерстве организовывался департамент государственной полиции. Одновременно, чтобы мвд не разрасталось чрезмерно и неуклюже, из него выделилось новое министерство почт и телеграфа. Это, кстати, требовалось и для того, чтобы несколько утешить Макова, нынешнего министра внутренних дел, который теперь соответственно становился "почтовым" министром.
Лорис-Меликов всячески убеждал царя, верившего ему, что он будет стремиться сохранить в государственном устройстве по возможности положение статус-кво. В сентябре новый министр внутренних дел специально собрал редакторов крупнейших газет и журналов и приказал воздержаться от "мечтательных разглагольствований".
Салтыков-Щедрин сообщал об этом "брифинге" П. В. Анненкову: "Вам, вероятно, известно, что Лорис-Меликов созывал всех редакторов и прочел им речь, в которой заявил, что о конституции и думать нечего и распространять конституционные идеи значит проводить в обществе смуту. Вот, значит, и либерализм выяснен".
На самом же деле диктатор понимал, что отсутствие изменений может оказаться гибельно для царизма. Он лавировал - в этом он был мастер. Он близко сошелся с княгиней Юрьевской, которая вскоре после смерти императрицы тайно обвенчалась с Александром II (сроки траура были при этом нарушены до предельного неприличия). Д. А. Милютин через год вспоминал: "Покойный государь был совершенно в руках княгини Юрьевской". Намечалась близкая коронация княгини, пожелавшей стать царицей - специальный историк был тайно направлен для тщательного изучения архивных документов, связанных с историческим прецедентом коронованием Петром Великим Екатерины I.
Но отсюда пошло и заметное охлаждение между Лорис-Меликовым и наследником престола. Постепенно в активного противника диктатора превращался приобретавший все большее влияние обер-прокурор Синода Победоносцев. Катков, более далекий от двора, был подавлен и на время опустил руки. Он говорил Б. Маркевичу: "Для кого писать? Тот, для кого я единственно держал перо в руках, сам отступился от своей власти, удерживая только ее внешность. Все остальное - мираж на болоте. Л.-М. и К0 - тот же фельетон "Голоса", тот же подъем мысли и тот же государственный смысл, что у этих стрекулистов..."
Увы, у Михаила Тариеловича еще оставалось будущее первого "певца" русской реакции - еще девять счастливых лет...
По словам современного советского историка, Лорис-Меликов в ту пору "не имел даже более или менее приблизительного представления о деятельности народовольцев" и несомненно считал, что его политика привела - хотя бы до известной степени - к "замирению" подполья, тем более, что с февраля громких террористических актов не совершалось.
Это было ошибочным представлением. Весь восьмидесятый I од ИК работал с огромной энергией, и воодушевлением, небезуспешно - пытаясь расширить сферу своей деятельности. Предполагавшийся в августе взрыв Каменного моста сорвался из-за случайности: рабочий Тетерка, у которого не было карманных часов, опоздал к назначенному часу, а один Желябов не смог привести в действие взрывной механизм. Однако вовсе не эта частная неудача определяла деятельность "Народной воли". Организация повела очень активную пропаганду среди заводских и фабричных рабочих. Историк-большевик В. И. Невский писал в 1930 г.: "Народовольцы вели работу среди пролетариата... и притом, по масштабам тех времен, работу большого размаха. Именно это и было одной из причин, облегчавших первые шаги социал-демократии на русской почве". В столице был создан Центральный рабочий кружок, довольно крупные кружки возникли в Одессе и Москве.
Закладывались основы военной организации "Народной воли".
Той осенью Россия, особенно на Поволжье, испытала сильный неурожай, что, естественно, вызвало резкое обострение недовольства у мужиков. Специально собрав ИК, Желябов просил отправить его на Волгу, где брался организовать и возглавить крестьянское восстание.
Но все эти великолепные планы или осуществлялись слишком медленно, или в значительной мере свертывались. Почему это происходило, очень ясно объясняет М. Н. Ошанина: "В Исполнительном Комитете по вопросу о терроре разногласий не было, но чем дальше, тем становилось яснее, что из-за террора страдают все остальные отрасли деятельности. Но на практике иначе оказывалось невозможным... На террор шло столько сил потому, что иначе его вовсе не было бы" (подчеркнуто мной - П. К.). А на террор народовольцы продолжали смотреть, как на главное, решающее оружие и иначе смотреть не могли.
"Народная воля" не смогла, не успела превратиться в сколько-нибудь массовую политическую партию Она оставалась довольно узкой организацией заговорщиков, силы которых были очень ограничены, хотя среди ее участников находились настоящие титаны духа.
Кроме того, осенью восьмидесятого для "Народной воли" началась пора невосполнимых потерь наиболее. ценного человеческого материала, которая затем, все убыстряясь, не оставляла уже организацию до ее окончательной гибели.
Предвестьем этого послужил "процесс 16-ти", проходивший 26-30 октября в Петербурге. Внешне он не выглядел поражением "Народной воли". Главный герои процесса А. А. Квятковский произнес на нем речь, строгость логики которой поражает в устах человека, ожидающего неизбежной гибели:
"Нас давно называют анархистами, но это совершенно неверно. Мы отрицаем только данную форму государственной организации, как такую, которая блюдет интересы только незначительной части общества, интересы капиталистов, землевладельцев, чиновников и прочих и служит главной причиной данного бедственного положения народа. Мы утверждаем, что государство, напротив, должно служить интересам большинства, т. е. народа, что может быть исполнено только при передачи власти народу, при участии в государственной жизни самого народа".
К смертной казни было приговорено пять участников процесса: А. А. Квятковский, А. К. Пресняков, С. Г. Ширяев, Я. Т. Тихонов и И. Ф. Окладский. Александр II затем заменил виселицу бессрочной каторгой Ширяеву, Тихонову и, видимо, уже продавшемуся охранке Окладскому. Квятковский же и Пресняков, несмотря на лорис-меликовскую "оттепель" были повешены. По словам Елены Штакеншнейдер это произвело гнетущее впечатление "даже на нелибералов". Близка к этому настроению и короткая запись Федора Михайловича, где он, между прочим, говорит: "Важно не количество, а настроение и упорство преступников, еще никогда и нигде неслыханное".
Это-то, действительно, являлось главным в успехах столь узкой и малочисленной, в сущности, организации, как "Народная воля". Но предательство испытанного боевика Окладского (о котором стало известно, кстати сказать, лишь десятилетия спустя - уже в советское время) было крайне зловещим симптомом. "Народная воля" казалась обществу, да и действительно была первое время монолитом. Как только в ней появились зловещие трещины, она сама очутилась в опасности. Дело было не только в том, что вслед за случаем с Окладским появились и другие факты измены. Просто на монолит уже не хватало той нержавеющей стали, из которой были сделаны Перовская, Желябов, Михайлов, десятки других бойцов беззаветного мужества и несгибаемой воли, сплотившиеся вокруг "великого ИК". Запасы этого редкого материала исчерпывались. "Мы проживаем свои капитал",- горестно сказал как-то Желябов.
То, что 1 марта в карету царя первую бомбу бросил Рысаков, проявивший себя на следствии как трус и моральное ничтожество, было случайностью, но случайностью характерной - и трагической.
28 ноября 1880 г. ИК понес тягчайшую потерю - был схвачен великий организатор и конспиратор Александр Михаилов. Обстоятельства его ареста были странны, они дают основания полагать, что даже эти железные люди находились после многомесячной изнурительной борьбы-работы на грани психического срыва.
Михайлов очень заботился о сохранении памяти о всех делах "Народной воли", всех героических эпизодах ее истории, считая это важнейшим революционным воспитательным актом. Уже из тюрьмы после 1 марта он передавал на волю товарищам; "Старайтесь увековечить, прославить наших незабвенных великих товарищей Андрея Ивановича Желябова, Софью "Львовну Перовскую и других, с ними погибших. Предлагаемое мною издание документов Исполнительного Комитета посвятите их памяти, учредите во имя их ежегодное празднество, обязательное для всей организации или даже партии, посредством обращения к общественному мнению. Вы этим не только заплатите по достоинству этим великим могучим людям, но и морально окажете сильное влияние на партию, поднимете дух партии, вызовете многих на самопожертвование".
Увы, в своей одиночной камере Михайлов не представлял, что в это время товарищам, еще оставшимся на воле, было уже никак не до организации празднеств.
После казни Квятковского и Преснякова Михайлов решил добыть их фотокарточки для архива партии. Вероятно, продумав, это можно было совершить без особенного риска. Но то, что сделал этот мастер конспирации, вообще не поддается логическому объяснению. Вот краткий рассказ Веры Фигнер об этом:
"...Он сам пошел в фотографию Александровского на Невском, в которой снимали арестуемых, и спросил карточки, заказанные там. Это были фотографии уже осужденных товарищей. В фотографии произошло замешательство, во время этой заминки один из служащих сделал жест по своей шее, указывая Михайлову на опасность, и Михайлов ушел. Но, несмотря на это и запрет Исполнительного Комитета, на другой день он отправился в фотографию, и... когда спускался по лестнице, давно поджидавшие его шпионы схватили его".
Фигнер говорит об Александре Михайлове: "...в революционной Франции XVIII века он был бы Робеспьером".
Интересно, есть ли у нас где-нибудь хоть один памятник этому замечательному революционеру? И сколько строчек уделено ему в школьном учебнике? В мое школьное время он там вообще не упоминался.
В книге С. С. Волка "Народная воля". 1879-1882 ("Наука", М.-Л., 1966, стр. 25) приводятся слова И. В. Сталина, сказанные им А. А. Жданову: "Если мы на народовольцах будем воспитывать наших людей, то воспитаем террористов". Ярчайшая страница революционной истории России была сокращена до краткого перечня "грубых ошибок"...
Михайлов, видимо, уступал Желябову как вождь и трибун, но превосходил его в качестве организатора, "мастера нелегальных дел" (никакого соперничества между этими двумя руководителями ИК не было и в помине). Вера Фигнер не устает горестно повторять: "Его гибель была ударом, который мы вспоминали при всех , несчастьях, поражавших нас впоследствии". "Многих несчастий мы не испытали бы впоследствии, если бы он был среди нас".
Что долго искать примера?
Блестящий контрразведчик "Народной воли" Н. В. Клеточников смог прослужить в самом центре царского сыска 734 дня, оказав за это время организации неисчислимые услуги, только потому, что Михайлов оберегал его как зеницу ока. После его ареста Клеточников сумел продержаться ровно два месяца.
Михайлов, вероятно, спас бы от гибели Софью Перовскую и главу военной организации "Народной воли" Суханова, которые находились перед арестом в таком эмоциональном состоянии, что просто сами лезли в жерло пекла. Но уговорить их, успокоить, заставить одуматься было некому.
Лавина арестов, все убыстрявшаяся с каждым месяцем, в конце концов смела "Народную волю" 1879- 1881 гг. По российского монарха она, эта лавина не спасла.
После казни Квятковского и Преснякова, незадолго до того, как его схватили, Александр Михайлов сказал о своем коронованном тезке: "На этот раз мы с ним покончим". И не ошибся. Он вообще редко ошибался - кроме рокового дня 28 ноября 1880 года.
За двадцать дней до этого, 8 ноября Федор Михайлович пишет Любимову письмо, где, что вполне естественно, проскальзывают торжественные нотки: "Вместе с сим отсылаю в редакцию Р. Вестника заключительный эпилог Карамазовых, которым и покончен роман!.. Ну вот и кончен роман! Работал его три года, печатал два - знаменательная для меня минута... К Рождеству хочу выпустить отдельное издание. Ужасно спрашивают, и здесь, и книгопродавцы по России; присылают уже деньги.
Мне же с Вами позвольте не прощаться. Ведь я намерен еще 20 лет жить и писать".
Последнее высказывание, опять-таки понятное и естественное в таком ликующем письме, почти единственное по тону в переписке Достоевского последних месяцев. Обычно же он определяет свое физическое состояние совсем по-другому и, увы, куда вернее. "Вряд ли проживу долго; очень уж тягостно мне с моей анфиземой переживать петербургскую зиму" (А. М. Достоевскому). "Пуще всего жестокое нездоровье, несмотря на то, что выезжаю; разгулялась моя анфизема, укороченное дыхание. А за ним и ослабление сил" (И. С. Аксакову). "Дни мои, сам знаю, что сочтены" (В. М. Каченовскому), "А здоровье мое так худо, как Вы и представить себе не можете. Из катара дыхательных путей у меня образовалась анфизема - неизлечимая вещь. (Задыхание, мало воздуху) и дни мои сочтены" (П. Е. Гусевой).
Е. П. Леткова-Султанова вспоминает: "Когда я увидела его (в октябре или ноябре 1880 г.), я была поражена его страдальческим видом..."
Это подтверждает и часто видевший его тогда (жил близко) юный студент И. И. Попов (будущий подпольщик): "Достоевский производил впечатление тяжело больного человека..."
Тем более странно выглядит утверждение столь вроде бы близкого в ту пору Федору Михайловичу человека, как А. С. Суворин: "Болезни его не придавали никакого значения. Достоевский выглядел так моложаво сравнительно со своими летами, так был подвижен, жив и нервен, так кипел замыслами и так мало думал о покое, что мысль о смерти мне и в голову не приходила".
Это пишет человек, славившийся своей наблюдательностью! Лишнее подтверждение того, что истинное внимание дается только любовью, а близко знакомый с десятками замечательных современников издатель "Нового времени" всю свою долгую жизнь искренне и глубоко любил лишь одного человека - излишне указывать кого.
Между тем, Федор Михайлович не дает себе ни дня отдыха. Окончив огромную работу над созданием "Карамазовых", он, не отрываясь, сидит над корректурами отдельного издания романа и одновременно готовится к выпуску "Дневника писателя" на 1881 год.
Кроме того, в разгаре сезон зимних литературных чтений, Достоевский отказывается выступать, когда отказ хоть сколько-нибудь возможен, но популярность его в зените, и он читает 19 и 26 октября, 21 и 30 ноября, 14 и 22 декабря. А ведь что стоили ему эти выступления! 29 ноября он жалуется знающему его с юности А. И. Савельеву: "...Я должен читать завтра в пользу студентов университета. Что со мной будет и как я прочту с моим укороченным дыханием, не могу и представить себе. Отказаться же нельзя: дал слово давно уже, объявлено в афишах и проч."
Последнее время его стали сильно раздражать светские вопросы о здоровье. Жене жаловался: "Говорят про меня, что я угрюм и сердит, а они не знают того, что у меня воздуху не хватает: я дышу как бы через платок".
О причинах внешне внезапной смерти Достоевского писалось много. Еще будем говорить об этом и мы. Однако главное можно сказать и сейчас: писатель умер от того, что несколько сильнейших нервных стрессов почти одновременно обрушились на его слабый организм с крайне запущенной болезнью. Болезнь прогрессировала и сама по себе и потому, что последний год (в отличие от предыдущих) Федор Михайлович фактически совсем не лечился (в одном из последних писем он мечтает: "Дотянуть бы только до весны и съезжу в Эмс. Тамошнее лечение меня всегда воскресает". Не дотянул).
Не лечился же Достоевский и не давал себе передышки по простой причине: спешил. Он знал, чувствовал, что кончается не только его жизнь, но и его эпоха, и тратил все силы, чтобы дать ее финалу тот тон, который считал верным.
Времени катастрофически не хватало. А остатки его съедала российская писательская слава, учетверенная "Карамазовыми": "...Вот только что проснусь в час пополудни, как пойдут звонки за звонками: тот приходит одно просит, другой другого, третий требует, четвертый настоятельно требует, чтобы я ему разрешил какой-нибудь неразрешимый "проклятый" вопрос - иначе де я доведен до того, что застрелюсь. (А я его в первый раз вижу)".
Поклонники не давали Федору Михайловичу покоя и на улице во время прогулок, что явствует, например, из воспоминаний аккуратного немца (и даровитого переводчика русских прозаиков и поэтов) Ф. Ф. Фидлера:
"Я учился тогда в последнем классе гимназии либо уже на первом курсе. Во всяком случае это происходило зимой, поскольку Достоевский был одет в меховое пальто... И вот я встретил Достоевского на Невском, перед костелом св. Екатерины, рядом с часовым магазином Винтерхальтера. Он стоял, вынув свои золотые часы и сверял их с круглыми часами на витрине магазина. Я застыл как вкопанный в двух-трех шагах от него и впился в него взглядом. Он бегло оглядел меня, затем снова посмотрел на часы и на витрину магазина. Я продолжал стоять, растопырив руки. Он спрятал часы и вновь глянул на меня. Я стоял, пожирая его глазами. Он вздрогнул, снова вынул часы и сделал вид, что смотрит на них. На самом деле это был жест смущения.
Я стоял перед ним, как перед божеством. Наконец, он бросил на меня гневный взгляд, сплюнул, после чего повернулся в другую сторону. Я же поспешил прочь".
Человеческое общение было Достоевскому необходимо. Но не такое же...
В эту зиму, ближе к рождеству, состоялось единственное свидание писателя с наследником престола. Вот как описывает его Л. Ф. Достоевская - со слов скорее матери, чем отца. "Будущий Александр III очень интересовался всеми русофилами и славянофилами, ожидавшими от него крупных реформ. Достоевский также хотел познакомиться, чтобы поделиться своими идеями по русскому и славянскому вопросам, и отправился в Аничков дворец, который обычно был резиденцией наших наследных князей. Его и ее высочество приняли его вместе и были восхитительно любезны по отношению к моему отцу; очень характерно, что Достоевский, который в этот период жизни был пылким монархистом, не хотел подчиняться этикету двора и вел себя во дворце, как он привык себя вести в салонах своих друзей. Он говорил первым, вставал, когда находил, что разговор длился достаточно долго и, простившись с цесаревной и ее супругом, покидал комнату так, как он это делал всегда, повернувшись спиной...
Наверное, это было единственный раз в жизни Александра III, когда с ним обращались, как с простым смертным. Он не обиделся на это и впоследствии говорил о моем отце с уважением и симпатией.
Этот император видел в своей жизни так много холопских спин!.."
Любовь Федоровна писала свою книгу по-французски, издана она была впервые на немецком, а мы читаем ее на русском. Думается, что и этим, а не только тем, что книга "Достоевский в изображении его дочери" писалась в окружении монархической эмиграции, объясняются некоторые не только не лишенные приторности, но и просто неуклюжие обороты отрывка.
Что же до существа... Мертвого Достоевского царь, может, и уважал - нельзя было уже ожидать от того непредвиденных неприятностей,- но, конечно, многие идеи писателя были ему глубоко враждебны. Политические взгляды наследника, плохо известные обществу, были крайне консервативными и целиком направленными на сохранение самодержавного статуса-кво. Реформ от него ждали совершенно напрасно (хотя действительно ждали - по ироническому замечанию П. А. Кропоткина, любой молодой престолонаследник априори подозревается в либерализме). Между тем, Федор Михайлович полагал, что настала пора для преобразований, которые должны коренным образом изменить всю русскую действительность.
В некрологе "О покойном" А. С. Суворин вспоминал: "Политические идеалы Достоевского... были широки, и он не изменил им со дней своей юности. До этих идеалов очень далеко гг. либералам... У нас, по его мнению, возможна полная свобода, такая свобода, какой нигде нет, и все это без всяких революций, ограничений, договоров. Полная свобода совести, печати, сходок... Нам свободы необходимо больше, чем всем другим народам, потому что у нас работы больше, нам нужна полная искренность, чтоб ничто не осталось невысказанным".
Можно не сомневаться, что такая программа, такие требования к русской общественной жизни Александра Александровича Романова не устроили бы абсолютно.
Некоторые свои мысли о путях к будущему Федор Михайлович успел высказать в январском, оставшемся единственным выпуске "Дневника писателя" за 1881 год. Но еще в декабре восьмидесятого в письме к И. С. Аксакову он весьма реалистически указал на серьезные препятствия, которые стоят на пути осуществления его планов (сейчас мы не будем касаться того, насколько эти проекты были утопичны сами по себе): "Власть, закрепощенный народ и горожане и между ними 14 классов. Вот дело Петрово. Освободите народ, и как будто дело Петрово нарушено. Но пояс-то, но зона-то между властью и народом ни за что не отступит и не отдаст свои привилегии править черным народом. Самые лучшие из них скажут: "Мы будем, мы станем лучше, постараемся стать и будем любить парод, но самоуправление дадим ему лишь чиновничье, ибо мы не можем отказаться от нашей прерогативы". Вот на эту-то стену, об которую все стукнулись лбом, Вы и не указываете".
Редакция "Русского вестника" не спешит с окончательным расчетом за "Карамазовых", и за два месяца до дня смерти Федор Михайлович пишет: "Я нахожусь в чрезвычайной нужде". Но его, занятого мыслями о грядущих и, по его мнению, совсем близких переменах в России, теперь это не очень вроде заботит. Посылая часть древнего долга старому (еще с петрашевских времен) приятелю А. Н. Плещееву - 24 декабря, до смерти месяц с несколькими днями - он настроен даже весело: "Вот еще 150 р., и все-таки за мной остается хвостик. Но отдам как-нибудь в ближайшем будущем; когда разбогатею. А теперь еще пока только леплюсь. Все только еще начинается".
Анне Григорьевне, хозяйке дома, до будущего преображения России дела было значительно меньше, и писала она тогда (Андрею Михайловичу, деверю) в куда более минорных тонах: "Федор Михайлович жалуется несколько на грудь. Но работы ужас как много, просто не остается ни минуты свободной. Мы печатаем отдельным изданием "Братьев Карамазовых", и они выйдут в свет в первых числах декабря... А тут хозяйство, дети, моя книжная торговля, все разрастающаяся, требования наших книг, счет с книжниками; одним словом, каждый час, каждая минута занята, и как ни работаешь, а видишь, в конце концов, что не сделала и половины того, что предполагала... Бесконечная и невозможная работа, а что грустно - что и в результате ничего не видно. Как ни бейся, как ни трудись, сколько ни получай, а все, при здешней дороговизне, уходит на жизнь, и ничего-то себе не отложишь и не сбережешь на старость. Право, иной раз руки опускаются и приходишь в отчаяние: такая каторжная работа, а только и утешения, что живешь в тысячной квартире, тогда как лично мне нужна маленькая комната".
Не могла тогда предположить Анна Григорьевна, что всего через несколько месяцев она станет с горькой горечью вспоминать о той прошлой суете, бесконечном труде, даже о той нужде, как о невозвратном, которое невозможно ничем заменить.
Вот из ее летних писем восемьдесят первого года Е. Ф. Юнге: "Утром жду вечера, вечером жду утра, как будто вечер или утро могут принести мне какое облегчение... Я точно умерла к жизни: все хорошо, все спокойно, а у меня тоска, тоска... Я не могу признать, что горе мое - эгоизм. Я тоскую не потому, что мне теперь трудней без него жить, мне больно, что он не жив, он, так желавший и мечтавший еще жить, еще работать, нарадоваться на детей... Знаете ли вы, что все 14 лет нашей общей жизни мы работали с ним, как волы (я помогала ему стенографией, корректурами, изданием книг), и вечно-то мы нуждались, вечно едва сводили концы с концами, тревожились и мечтали хоть о самом крошечном обеспечении. И вот, он умирает,- и я обеспечена, у меня пенсия. Ну не горькая ли это насмешка?.. Как мне больно думать, зачем это относительное довольство (кроме пенсии, и дела наши пошли лучше) не пришло прежде, когда оно было так необходимо, когда оно могло успокоить его. Я, должно быть, странный человек: мне кажется, не получи я пенсии, я бы легче перенесла мое горе. Мне бы пришлось много работать, и я нашла бы себе утешение в мысли, что работаю для детей, что без меня они пропадут... Теперь же у меня руки опускаются и все кажется, что я работаю лишь для того, чтоб у них было лишних 200 рублей".
...Между тем, наступил одна тысяча восемьсот во семьдесят первый...
© F-M-Dostoyevsky.ru, 2013-2018
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://f-m-dostoyevsky.ru/ "Фёдор Михайлович Достоевский"
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://f-m-dostoyevsky.ru/ "Фёдор Михайлович Достоевский"
