


Начало нового витка спирали
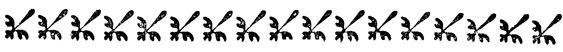
Достоевский редактировал журнал "Гражданин" шестнадцать месяцев - с января 1873 г. по апрель 1874-го. Между тем, и он сам, и близко знавшие его современники обычно несколько преуменьшали этот срок, говорили о "годе редакторства", что вполне объяснимо: уже к концу первого года своей новой редакторской деятельности Федор Михайлович разочаровался в ней и дальше лишь тянул лямку до первой возможности ухода
Впрочем, разочаровываться он начал еще раньше, чуть не с самого начала пребывания в журнале. Об этом свидетельствуют, в частности, многочисленные реляции в письмах своим знакомым всезнайки и сплетника Николая Николаевича Страхова. Уже в марте 1873-го Страхов пишет Л. Н. Толстому о Достоевском: "Гражданин", в котором он редакторствует, очень его волнует, терзает, раздражает". А в июне сообщает Н. Я. Данилевскому: "Достоевский один заправляет делом, и, кажется, много выпадает ему на долю неприятностей. Охота соваться в такое дело!.. Судя по рассказам, он принял на себя редакторство впопыхах, не подумавши".
Тогдашний молодой друг Федора Михайловича Всеволод Соловьев (сын историка и брат философа), в ту Пору начинающий писатель, так объяснял причины разочарования Достоевского: "Он мечтал... заставить общество слушать себя... посредством редактируемого им журнала; но скоро убедился, что это крайне трудно, почти невозможно. Журнал начался слишком односторонне... Затем, у журнала были слишком небольшие материальные средства, случайные сотрудники были так плохи, что выбирать из них было почти нечего. Наконец, Достоевский не был вполне самостоятелен как редактор..."
До прихода Федора Михайловича в "Гражданин" этот еженедельник издавался всего лишь год (да и то не совсем регулярно), но успел приобрести репутацию весьма одиозную. Этим он был обязан преимущественно своему неофициальному хозяину, князю Владимиру Петровичу Мещерскому. Тридцатидвухлетний князь, человек светский и придворный, страстно увлекавшийся печатным словом (что было, в общем, вполне естественно для внука Карамзина), выглядел в глазах читающей публики не просто крайним консерватором, но даже, консерватором-шутом, ибо он договаривался порой до такого, что другие столпы реакции считали все-таки неприличным. С Мещерским не столько спорили, сколько высмеивали его. Конечно, Достоевскому было трудно выражать свои заветные верования при таком несерьезном и компроментирующем соседстве.
Главным делом Федора Михайловича в "Гражданине" был его первый "Дневник писателя". К сожалению, главным лишь по сути, а не по тому, сколько сил он мог уделить этому своему детищу, о котором он мечтал давно - еще со времен катастрофы с "Эпохой" (а "в первом приближении" - и того раньше). Увы, основные силы уходили на редакторскую текучку. Но важен был писателю прежде всего его "Дневник", и, убедившись, что не сможет вести его в "Гражданине" так, как он хотел, Достоевский окончательно охладел к журналу в целом.
Демократом, глубоко верящим в творческие силы народа, не сомневающимся, что только народ способен решить "все", Достоевский оставался всегда. Об этом он говорит и в "Дневнике" 1873 года, используя образ некрасовского Власа: "Я все того мнения, что ведь последнее слово скажут они же, вот эти самые разные "власы", кающиеся и некающиеся; они скажут и укажут нам новую дорогу и новый исход из всех, казалось бы, безысходных затруднений наших. Не Петербург же разрешит окончательную судьбу русскую". Эта убежденность резко отделяет демократа Достоевского от либералов. Насколько велика здесь была пропасть, видно из ответной реплики на эти слова "Дневника" крупнейшей либеральной газеты того времени - "Голоса" А. А. Краевского: "Беда в том, что сами "власы" о своих спасательных силах ничего не знают и более чем кто-нибудь напоминают о своем обезьяньем происхождении". Одной этой реплики достаточно, чтобы понять, почему Достоевский так глубоко презирал своих современников- либералов. (Слова о близости "власов" к обезьянам принадлежат публицисту А. Ковнеру, впоследствии совершившему хищение из банка, осужденному и из заключения вступившему с Федором Михайловичем в весьма любопытную переписку).
Проницательный художник-реалист, Достоевский, конечно, не идеализирует народ в его современном ему общественном и нравственном состоянии. Он отмечает, что приход новых капиталистических черт действительности в пореформенную Россию окончательно размывает патриархальную мужицкую мораль: "Прежний мир, прежний порядок - очень худой, но все же порядок - отошел безвозвратно. И, странное дело: мрачные нравственные стороны прежнего порядка - эгоизм, цинизм, рабство, разъединение, продажничество - не только не отошли с уничтожением крепостного быта, но как бы усилились, развились и умножились; тогда как из хороших нравственных сторон прежнего быта, которые все же были, почти ничего не осталось". Однако, утверждает писатель, "в огромном большинстве народа нашего, даже и в петербургских подвалах, даже и при самой скудной обстановке есть все-таки стремление к достоинству, к некоторой порядочности, к истинному самоуважению; сохраняется любовь к семье, к детям".
Вместе с тем в "Дневнике" 1873 г. Достоевским была высказана совершенно фальшивая, враждебная основной сути всего его творчества, мысль о том, что "страданием своим русский народ как бы наслаждается". За эти слова сейчас же язвительно ухватилась либеральная журналистика, и здесь критиков писателя понять, конечно, легко. Но они не хотели видеть, что в соседних же главах "Дневника" Достоевский с негодованием говорит о тех, кто несет людям страдания.
И позже писатель не раз повторял и письменно, и устно: "Страдать нужно!" Нужно страдать художнику, который повествует о страдающем человечестве, иначе он не будет в полной мере знать и чувствовать то, о чем он говорит, нужно страдать любому человеку, достойному этого имени, чтобы быть равным членом страдающей всечеловеческой семьи, ибо "человек на поверхности земной не имеет права отворачиваться и игнорировать то, что происходит на земле, и есть высшие нравственные причины на то". Нужно страдать, чтобы преодолеть страдание, а не подчиниться ему или убежать от него.
Но ведь это уже не "наслаждение страданием", а нечто совсем другое, и с этой точки зрения подобное "наслаждение" - аморально.
В главе "Среда" автор "Дневника" рассказывает о мужике, что бесчеловечными и изощренными истязаниями довел свою жену до самоубийства. В этом рассказе наслаждается не тот, кто страдает, а тот, кто заставляет страдать, и Достоевский, естественно, гневно осуждает его, вовсе не извиняя тем, что он "народ" и "не ведает, что творит". "Неразвитость, тупость, пожалейте, среда",- настаивал адвокат мужика. Да ведь их миллионы живут и не все же вешают жен своих за ноги!.. С другой стороны вот и образованный человек, да сейчас повесит".
Вопрос о "среде" и его современное истолкование очень волнуют Достоевского, и он неоднократно возвращается к нему на протяжении всего "Дневника" 1873 года. Конечно же, не автору "Бедных людей" и "Мертвого дома" было отрицать то, что поведение человека в обществе социально обусловлено. Но он видел, что к семидесятым годам XIX века гуманистическая идея об ответственности общества, государства, строя перед личностью была выхолощена, и иными либеральными болтунами превращалась в аморальную идею безответственности личности. "Среда заела" - значит, преступников никогда не может быть. Все поступки человека фатально детерминированы, нет ни правых, ни виноватых, личность - пешка, передвигаемая обстоятельствами.
Достоевский слишком верил в человека, чтобы согласиться с подобным выводом. "Делая... человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравственного личного долга, от всякой самостоятельности..."
Человеческая личность способна противостоять "среде" и изменять ее. "Энергия, труд и борьба - вот чем перерабатывается среда. Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства. "Достигнем того, будем лучше и среда будет лучше".
И здесь журнальный оппонент "Гражданина", ведущий идеолог народничества Н. К. Михайловский соглашался с Достоевским. "Учение о среде в своем крайнем развитии обезличивает и нравственно унижает человека",- писал он. Революционеры-народники не хотели подчиняться всероссийской "среде", они готовились идти против нее и изменять ее.
"Энергия, труд и борьба" необходимы для "переработки" среды - здесь взгляды автора "Дневника" и народнической молодежи вроде бы совпадали. Но эта молодежь вкладывала в понятие труда и борьбы совершенно определенный смысл. Она готовилась "идти в народ", чтобы поднимать его на борьбу с неправым и жестоким строем, порождающим эту самую косную "среду". Достоевский же не видел тех путей, на которых народ "спасет и решит". Приходилось уповать на чудо: "И может быть, главнейшее предызбранное назначение народа русского в судьбах всего человечества и состоит лишь в том, чтоб сохранить у себя этот божественный образ Христа во всей чистоте, а когда придет время, явить этот образ миру, потерявшему пути свои!"
Когда придет это время? И почему оно еще не пришло сейчас, если "лик мира сего" так скверен? Каким образом народ русский "явит" "божественный образ Христа"? И какие нужны тут "энергия, труд и борьба", Да и нужны ли они вообще при этом? От всех этих вопросов "Дневник писателя" уходил.
И кто может помочь народу сохранить "божественный образ" (ведь о том, что традиционная крестьянская мораль дореформенной деревни стремительно рушится, Достоевский говорит в "Дневнике" не раз)? Над дворянством - особенно над дворянством на государственной административной службе - редактор органа дворянской реакции издевается (например, в очерке "Маленькие картинки (в дороге)", опубликованном во время "редакторского года" в благотворительном альманахе "Складчина"). Наступающую буржуазию ненавидит. Либеральную интеллигенцию презирает. Духовенство? В главе "Смятенный вид" Достоевский говорит: "...помощь духовенства народу никогда еще не была так настоятельно необходима". Но примеры, которые он тут же приводит, говорят о том, что народ вряд ли дождется этой помощи, потому что священники на практике превратились в "чиновников от правительства", которые даже к трезвости не могут призывать во весь голос, хотя "народ пьян с утра до вечера". Но чиновнику в рясе "все-таки надо иметь в соображении величие России как великой державы, которое так дорого стоит..." Ему "остается, стало быть, проповедовать, чтобы народ пил немножко только поменьше..."
К пьянству "Дневник писателя" обращается неоднократно. Для Достоевского эта тема трагическая в условиях, когда "чуть не половину теперешнего бюджета нашего оплачивает водка, то-есть по-теперешнему, народное пьянство и народный разврат", когда "в иных местностях, во многих даже местностях кабаки стоят уже не для сотен жителей, а всего для десятков, мало того - для малых десятков". Царское государство строило свое "величие" и "процветание" на спаивании, отравлении водкой народа. По статистическим данным "питейный доход" составлял в те годы в общем государственном доходе более тридцати процентов, так что Достоевский не слишком преувеличивал, говоря о "чуть не половине". Администрация самодержавного государства решительно противодействовала борьбе за народную трезвость.
С тяжелым сердцем говорит писатель о том, как пьянство низводит рабочего человека до первобытного уровня: "Известно, что в хмелю первым делом связан и туго ворочается язык во рту, наплыв же мыслей и ощущений у хмельного или у всякого не как стелька пьяного человека удесятеряется. А потому естественно требуется, чтобы был отыскан такой язык, который мог бы удовлетворять этим обоим, противоположным друг другу состояниям. Язык этот уже спокон веку отыскан и принят во всей Руси. Это просто-напросто название одного нелексиконного существительного, так что весь этот язык состоит из одного только слова, чрезвычайно удобно произносимого". Наблюдая петербургских рабочих, Достоевский записывает: "Они ходят по праздникам пьяные, иногда толпами, давят и натыкаются на людей - не от буянства, а так, потому что пьяному нельзя не натыкаться и не давить..."
Сам Федор Михайлович всю свою жизнь был очень воздержан к алкоголю. Один из близко знавших его людей вспоминал, что за четверть века знакомства ему не пришлось ни разу видеть Достоевского хотя бы под легким воздействием вина. Вместе с тем Федор Михайлович не понаслышке знал, как алкоголь губит человека: сильно пил в последние годы жизни его отец, и его гибель, несомненно, оказалась связанной с его пьянством, смолоду стал совершенно опустившимся алкоголиком его брат Николай, недолгое время подававший надежды как талантливый архитектор; Достоевскому пришлось его материально поддерживать до самой своей смерти - Николай не был способен заработать ни копейки (Вере Михайловне Ивановой он писал еще в 1865 г.: "Живу, но какова эта жизнь, милая сестра! Жизнь дармоеда, жизнь на чужой счет". Так Николай Михайлович прожил и все оставшиеся ему после этого восемнадцать лет). От беспробудного пьянства умер первый муж М. Д. Исаевой, отец Паши Исаева - Федор Михайлович хорошо знал его. Трагический образ Мармеладова, маленького человека, который спивается потому, что в жизни ему "пойти некуда", был глубоко "выжит" его создателем, если воспользоваться словом, которое любил в подобном применении употреблять сам писатель.
Мармеладов пришел в "Преступление и наказание" из более раннего замысла ("Пьяненькие"), В письме к А. А. Краевскому от июня 1865 г. Достоевский предлагал "Отечественным запискам" роман с таким названием, который "будет в связи с теперешним вопросом о пьянстве. Разбирается не только вопрос, но представляются и все его разветвления, преимущественно картины семейств, воспитание детей в этой обстановке и проч. и проч". Замысел остался неосуществленным, но проблема народного пьянства продолжала глубоко волновать писателя. Он считал, что в борьбу с этим народным злом должна вступить и литература. Поэтому Достоевский как редактор печатает в "Гражданине" (в трех номерах) драму Д. Д. Кишенского "Пить до дна - не видеть добра", а как публицист и критик посвящает ее разбору целую главу "Дневника".
Кишенский - третьестепенный московский литератор, публикация драмы в "Гражданине" была высшим взлетом его писательской карьеры. Вскоре он вступил с Достоевским в весьма острый конфликт, обиженный отказом Федора Михайловича напечатать в журнале его новую драму "Падение" - аляпейшую антинигилистическую поделку. Несомненно переоценивал Достоевский и ту пьесу Кишенского, которую он напечатал в "Гражданине" ("серьезнее ничего, по крайней мере, не появлялось в нашей литературе за последнее и, может быть, довольно длинное время"). Но важность поднятой темы перевесила в его глазах грубоватость и дидактичность сочинения Кишенского. В сюжете и героях пьесы Федор Михайлович увидел подтверждение своей мысли об уничтожении "новым порядком" российской действительности старых нравственных ценностей. Их место заняла циническая пустота, моральный нигилизм.
Об этом сам Достоевский пишет в рассказе "Бобок", включенном в состав "Дневника" 1873 года. Этот небольшой рассказ - подлинный шедевр новеллистики писателя, одно из гениальнейших созданий "фантастического реализма" Достоевского. Поражает невероятная "грузоподъемность" пятнадцатистраничного рассказа, вместившего огромную идейную проблематику. С необычайной художественной смелостью писатель воскрешает в эпоху критического реализма древний жанр, казалось бы, с реалистическим методом совершенно несовместимый - мениппею, "разговоры в царстве мертвых".
Мениппея существовала в античной литературе, вновь получила некоторое распространение в эпоху классицизма, в том числе и в русской литературе XVIII века. Достоевский не стилизует свое произведение под старый жанр, он сам жанр решительно переосмысливает. Чтобы наиболее разительно показать аморализм и цинизм, принесенный русскому обществу буржуазирующим его "новым порядком", писатель прибегает к резкому гротеску, поместив своих "героев", типичных в своей заурядности представителей петербургского общества 70-х годов, в обстановку предельно необыкновенную. Только что похороненные покойники оживают в своих могилах и возвращаются на некоторое время к жизни - жизни странной, сверхестественной и в то же время так напоминающей их прежнюю пошлую и безнравственную жизнь.
Как объясняет своим "коллегам" один из персонажей новеллы пронырливый чиновник Лебезятников, "тело здесь еще раз как будто оживает, остатки жизни сосредотачиваются, но только в сознании. Это... продолжается жизнь как бы по инерции. Все сосредоточено... где-то в сознании и продолжается еще месяца два или три... Иногда даже полгода..."
Внутренне заурядны не только "могильные" персонажи новеллы, но и рассказчик, маленький литератор-неудачник ("перевожу больше книгопродавцам с французского. Пишу и объявления купцам: "Редкость! Красненький, дескать, чай с собственных плантаций..." За панегирик его превосходительству покойному Петру Матвеевичу большой куш хватил, "Искусство нравиться дамам" по заказу книгопродавца составил"), "Одно лицо" - так он определен автором в кратчайшем вступлении к этой главе "Дневника писателя": "На этот раз помещаю "Записки одного лица", Это не я; это совсем другое лицо, я думаю, более не надо никакого предисловия".
"Одно лицо" начинает с мелкой "автобиографической" болтовни (в которую вставлены полемические намеки на критических оппонентов "Дневника писателя"). Литератор-неудачник давно пьет, видимо, близок к белой горячке: "Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи. Не то, чтобы голоса, а так, как будто кто подле: "Бобок, бобок, бобок!"
С "болтовни" "одного лица" в рассказ входит тема профанации смерти: "Ходил развлекаться, попал на похороны. Дальний родственник... Меня принимали всегда нерадушно. Да и не пошел бы и теперь, если бы не экстренный такой случай... Лет двадцать пять, я думаю, не бывал на кладбище; вот еще местечко! Во-первых, дух. Мертвецов пятнадцать наехало. Причту нельзя пожаловаться: доходы. Но дух, дух. Не желал бы быть здешним духовным лицом... Вышел, пока служба, побродить за врата. Тут сейчас богадельня, а немного подальше и ресторан. И так себе, недурной ресторанчик: и закусить и все. Набилось много и из провожатых. Много заметил веселости и одушевления искреннего" (подчеркнуто мной - П. К.).
Профанация смерти обычна в жанре мениппеи, но в рассказе Достоевского у нее особая идейная нагрузка: циническое отношение к смерти подготавливает тот цинизм ко всему на свете, к которому устремляются персонажи рассказа и который выражен в призыве одного из них - великосветского негодяя Клиневича: "Господа! Я предлагаю ничего не стыдиться!.. Заголимся и обнажимся!"
Пробуждаясь в могиле, мартвецы ощущают сильнейшую вонь. На недоуменный вопрос Клиневича, как же они могут обонять, лишившись органов чувств, "льстивый Лебезятников" объясняет, ссылаясь на уже окончательно засыпающего философа, "естественника и магистра" Платона Николаевича: "... тут вонь слышится, так сказать, нравственная - ха-ха! Вонь будто бы души, чтобы в два-три месяца успеть спохватиться... и что это, так сказать, последнее милосердие... Только мне кажется, барон, все это уже мистический бред, весьма извинительный в его положении".
Но и для Клиневича мысль о "последнем милосердии", о какой-то нравственной самооценке, о том, что нужно "спохватиться" - "вздор". "Главное, два или три месяца жизни и в конце концов - бобок" и потому - "главное, чтобы весело провести остальное время".
Понятно, что тут два-три месяца проецируются на обычную земную куда более продолжительную, но неминуемо конечную жизнь. Эти два-три месяца, в сущности, продолжают привычное течение бытия героев рассказа. "Проснулся чиновник, из статских советников, и начал с генералом тотчас же и немедленно о проекте новой подкомиссии в министерстве... и о вероятном, сопряженном с подкомиссией, перемещении должностных лиц". Светская дама и нимфоманка Авдотья Игнатьевна, питающая особое пристрастие к "юношам" (Клиневича она развратила, когда тому было четырнадцать лет), усиленно интересуется вновь похороненными молодыми людьми ("- Милый мальчик, милый, радостный мальчик, как я тебя люблю!- восторженно взвизгнула Авдотья Игнатьевна.- Вот если б этакого подле положили!"). Генерал Первоедов играет с Лебезятниковым в карты. Между ними происходит следующий характерный диалог:
"- Однако лавочник-то барыню слушается, ваше превосходительство.
- Почему же ему не слушаться?
- Ну да известно, ваше превосходительство, так как здесь новый порядок.
- Какой же это новый порядок?
- Да мы ведь, так сказать, умерли, ваше превосходительство.
- Ах, да! Ну все же порядок..."
Т. е. генерал словно бы забывает, что он умер.
Однако для более проницательных персонажей "Бобка", вроде Клиневича, между бытием прежним и нынешним разница весьма существенна. Если раньше конечность бытия, ограниченность земных сроков была достаточно неопределенна и над ней можно было не задумываться, то теперь она совершенно конкретна: десяток-полтора недель и - "бобок". Это время, как бы установленное для подведения итогов жизни, нравственного суда над собой. Но Клиневичу и почти всем его "соседям" сама мысль об этом кажется "мистическим бредохм". Им нечем судить себя - совести у них не осталось. Но Клиневич быстро находит то, что он и ему подобные могут извлечь из этих двух-трех месяцев: это особая, предельно утонченная близким концом острота наслаждения бесстыдством, которому теперь уже не приходится ограничивать себя страхом наказания. И прочие покойники с радостью подхватывают призыв "не стыдиться". Для них данная им кем-то отсрочка - только повод для еще более низкого и гнусного падения. Так дряхлый развратник семидесятилетний тайный советник Тарасевич (который "целых четыреста тысяч казенного неотчету оставил.. Сумма на вдов и сирот, и он один почему-то хозяйничал") невероятно возбуждается, узнав, что в соседней могиле лежит молоденькая "мерзавочка": "Мне... мне давно уже,- залепетал, задыхаясь, старец,- нравилась мечта о блондиночке... лет пятнадцати... и именно при такой обстановке..."
Призыву ко всеобщему разврату противится лишь генерал Первоедов (против этого призыва и патриархальный купец-лавочник, однако среди образованных господ он слова не имеет), но его сопротивление беспомощно, потому что он может аппелировать лишь к внешним атрибутам "чести": "...я имею шпагу... я составлял часть целого". Клиневич парирует его реплики не просто остроумно - "шпагой вашей мышей колоть, и к тому же вы ее никогда не вынимали" и "мало ли какие есть части целого",- это ведь и ответ по существу: на самом деле, никакой чести у Первоедова нет, его земное существование было таким же бессмысленным и безнравственным, как и у его кладбищенских соседей.
Даже "одно лицо", человечка, вроде бы ко всему притерпевшегося, возмущает услышанное: "И это современный мертвец!" "Разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат дряблых и гниющих трупов и - даже не щадя последних мгновений сознания?"
Достоевский считал жизнь человека величайшим достоянием мира, и к тем, кто превращает это бесценное сокровище в смрадную гадость, он не мог относиться иначе, как с гневом и презрением. Гневный сарказм великого гуманиста во всю мощь звучит в этом гениальном рассказе.
В. П. Мещерский был видным человеком в одной из придворных группировок; это вовсе не означает, что его журнал являлся официозом. Партии при царском дворе враждовали между собой, у каждой были свои сторонники и противники в кругах правительственной бюрократии. Многие были рады при благоприятном случае подставить подножку удачливому молодому князю и его журналу. ("Кн. Мещерский пожинает лавры. Везет ему удивительно", - сообщал Н. Я. Данилевскому Страхов). Синяки при этом доставались Достоевскому.
Уже в первый месяц редакторства Федора Михайловича началось надолго растянувшееся преследование Достоевского за публикацию в № 5 "Гражданина" заметки В. Мещерского "Киргизские депутаты в С.-Петербурге".
Предлог для преследования был, в сущности, маловажным: видимо, недруги князя воспользовались его случайным и не имевшим никакого принципиального значения промахом. Мещерский описывал в своей маленькой корреспонденции прием царем депутации "киргиз Семипалатинской области, выбранной народом Зайсанского приставства и Усть-Каменогорского уезда для принесения благодарности Его Величеству за принятие в подданство России, в числе 20000 кибиток (или саней), и за введение нового положения, данного степям в 1869 году, которого благотворное действие ощущается кочевниками наших необъятных степей уже 4-й год". Бойкое перо князя, в частности, зарисовало эпизод, когда глава депутации, бодро начавший приветственную речь обращением: "Ваше императорское величество",- был прерван зычным возгласом помазанника божьего: "А! Ты говоришь по-русски?" - и до того смутился и смешался, что "далее мог произнести тихо только несколько слов".
Цензура нашла, что описание этого эпизода является нарушением "высочайшего повеления от 28 апреля 1870 г.", гласившего, что "статьи и сочинения, оригинальные и переводные, в коих описываются личные действия или излагаются изустные выражения государя императора и особ императорской фамилии или же приводятся обращенные к ним речи, могут быть печатаемы не иначе, как с разрешения министра императорского Двора".
Сначала редакцию запросили, имела ли она разрешение министра. Получив официальное подтверждение, что разрешения не имелось, Петербургский цензурный комитет обратился в окружной суд, ходатайствуя о "возбуждении судебного преследования... против редакции журнала "Гражданин", в лице редактора - отставного поручика Федора Михайловича Достоевского".
Дело могло обернуться плохо. В редакции считали даже возможным запрещение "Гражданина", Федор Михайлович уже заготовил заметку "От редакции", где подписчики извещались: "Вследствие непредвиденного обстоятельства издание журнала "Гражданин" в настоящее время прекращается".
Колесо судебной машины вращалось медленно. Лишь 26 мая Достоевский получил "копию обвинительного акта, коим предается суду СПб. окружного суда, без участия присяжных заседателей, редактор газеты "Гражданин", отставной подпоручик* Федор Михайлович Достоевский, находящийся на свободе, обвиняемый в том, что 1873 г. января 29-го в № 5 газеты "Гражданин" поместил статью под заглавием "Киргизские депутаты в С.-Петербурге", в которой напечатаны слова, обращенные государем императором к депутатам, и начало речи одного из них, без разрешения министра императорского двора, что составляет преступление, предусмотренное 1024 ст. Уложения о наказаниях".
* (На этот раз чин, с которым Достоевский вышел в отставку, указан верно.)
Еще полмесяца прошло, прежде чем состоялся суд. Анна Григорьевна говорит в "Воспоминаниях", что на суде муж "конечно, признал свою виновность". Однако, дело обстояло не совсем так. В судебном отчете указано: "Подсудимый не отрицал факта напечатания слов государя и начала речи депутата без разрешения министра двора, но виновным себя не признал. Защитник, присяжной поверенный Гаевский доказывал, что "в приведенных словах не выражается высочайшая воля, а есть лишь восклицание и скорее привет, ласковое обращение; между тем закон требует разрешение министра двора для напечатания лишь таких слов государя, в которых выражается его воля, и что настоящее дело неправильно возбуждено Цензурным комитетом, так как, по мнению защиты, оно могло быть начато только по почину министра двора".
Разумеется, в оглашении слов депутата-степняка "ваше императорское величество", равно как и царского "А!" крамольного не могло быть ничего ни с какой точки зрения; Федору Михайловичу очень не хотелось быть наказанным из-за такой ерунды, не случайно он обратился за помощью к В. П. Гаевскому, который был заметной фигурой в столичной адвокатуре.* Достоевский знал его уже больше десятка лет: они вместе работали в первой половине шестидесятых годов в комитете литературного фонда. Гаевский продолжал работать в литфонде и теперь. Позже Федор Михайлович хотел привлечь Гаевского в качестве поверенного к своему процессу о наследстве (но тот уже отошел от адвокатской практики). Все это свидетельствует, что А. Г. Достоевская преувеличивает, зачисляя всех руководителей литературного фонда в число врагов Федора Михайловича.
* (Точнее говоря, защитник был назначен судом, но, надо думать, его кандидатура была заранее обговорена с подзащитным.)
Федор Михайлович очень заинтересовался казуистической логикой адвоката (ведь факт нарушения буквы закона был несомненен), потом он печатно вспоминал об этом случае и, может быть, думал и о нем, когда писал в "Братьях Карамазовых" своего адвоката Фетюковича. Но в данном случае победила бюрократия: Достоевский был признан виновным и приговорен к двухдневному аресту и двадцатипятирублевому штрафу. Федор Михайлович был очень раздражен: жил он в это время в весьма жестком режиме, а потеря двух дней - притом неизвестно когда - этот режим расстраивала.
Лето 1873 года Федор Михайлович проводил в разлуке с семьей, жившей в Старой Руссе, и это было для него очень тяжело. "Без жены и детей я жить не могу",- писал он Погодину. Но - приходилось. Детей нельзя было оставлять в Петербурге летом, а он не мог покинуть город из-за редакторства. Журнал выходил по понедельникам (в день, когда и ежедневные газеты не печатались), в течение лета Достоевский несколько раз, закончив работу над номером, уезжал в воскресенье вечером к семье с тем, чтобы успеть обязательно вернуться утром в четверг. Дорога в Старую Руссу была и неблизкая, и неудобная - с двумя пересадками - однако Федор Михайлович испытывал просто необходимость побыть с женой и детьми в доме на набережной Перерытицы. Понятно, что два арестных дня, которые могли неожиданно выпасть на любые числа, путали все "каникулярные" планы Достоевского. К счастью, он познакомился на суде с молодым тогда, но уже весьма влиятельным судебным деятелем А. Ф. Кони. Молодой юрист очень высоко ценил и глубоко уважал автора "Преступления и наказания", их знакомство быстро стало дружеским, общение продолжалось до смерти писателя; работая над последним своим романом, Достоевский консультировался у Кони, чтобы избежать ошибок к изображении судопроизводства. А. Ф. Кони, служивший тогда прокурором окружного суда, пообещал Федору Михайловичу, что он отбудет свое двухдневное заключение во время, которое сам найдет удобным для себя.
В "Гражданине" печатались не только такие столпы консерватизма и реакции, как Победоносцев и Мещерский. В нем сотрудничали и действительно выдающиеся деятели русской культуры - Тютчев и Чайковский, Писемский и Майков. "Дневник писателя", каждая глава которого встречалась либеральной печатью с ожесточением, порой переходившим в малопристойную брань,* у читателей несомненно пользовался успехом. Тем не менее, с каждым месяцем у Достоевского усиливается убеждение, что, согласившись редактировать издание Мещерского, он совершил ошибку.
* (Один из журналов писал, например, по поводу рассказа "Бобок": "Самый уже выбор сюжетов производит на читателя болезненное впечатление и заставляет подозревать, что у автора что-то неладно в верхнем этаже". Отзывы подобного рода насчитываются Десятками. Намеки на то, что Достоевский близок к сумасшествию, занимают в них почетное место.)
Власть редактора весьма ограничена издателем (все материалы публикуются только с его согласия). Может быть, начиная редакторский год, Федор Михайлович рассчитывал, что со временем положение изменится,- но этого не произошло. В ноябре он подробно информирует Погодина: "Так как у нас в журнале нет единого главы, то отзывается и при издании... Я составляю №, читаю статьи, переделываю их и изредка пишу сам - вот моя работа. Что же до всего прочего, то, если бы я и захотел - не могу о том иметь понятия... Вся хозяйственная и распорядительная часть не на моих руках... Локти у меня несколько связаны. Принимаясь за редакторство, год тому, воображал, что буду гораздо самостоятельнее".
М. А. Александров, знавший редакционную кухню "Гражданина" изнутри, указывает: "...У журнала очутилось двое хозяев или, вернее, ни одного хозяина при двух распорядителях-редакторах - официальном и неофициальном".
Положение было бы еще терпимым, если б редакторы действительно являлись единомышленниками. Но чем дальше, тем больше убеждался Достоевский в глубоком своем идейном разномыслии с Мещерским.
Он вообще невысоко ставил князя как литератора. По поводу великосветских романов Мещерского Федор Михайлович говорил Александрову, что "так писать нельзя". Анне Григорьевне он жалуется: "Прошлую неделю начал писать статью и должен был бросить из уважения к Мещерскому, чтобы поместить внезапно присланную им статью о смерти Тютчева,- безграмотную до того, что понять нельзя, и с такими промахами, что его на 10 лет осмеяли бы в фельетонах. Сутки, не разгибая шеи, сидел и преправлял, живого места не оставил. Напишу ему прямо, что он ставит меня в невозможное положение".
Наконец, в начале ноября Достоевский просто выбрасывает из статьи издателя журнала кусок, имевший принципиальное значение и решительно возмутивший Федора Михайловича. В "Петербургском обозрении" Мещерский под видом заботы об улучшении условий быта столичных студентов рекомендовал завести для них благоустроенные общежития, что должно было, по мысли князя, придать политическим устремлениям молодежи самый благонамеренный характер: "От света, общества, хорошего воздуха исчезает раз навсегда болезненная непреодолимая склонность к каким бы то ни было заговорам, как исчезает дым при появлении огня!" Однако князь рассчитывал не на один хороший воздух и дальше, следует полагать, говорил о том, что и полиции в таких общежитиях выявлять крамолу будет сподручнее, Это видно из записки Достоевского Мещерскому, написанной в типографии - Федор Михайлович прочитал статью князя в этом варианте, видимо, уже в гранках: "...7 строк о надзоре, или как Вы выражаетесь о труде надзора Правительства я выкинул радикально. У меня есть репутация литератора, и сверх того - дети. Губить себя я не намерен. Кроме того, Ваша мысль глубоко противна моим убеждениям и волнует сердце", Мещерский хочет помочь полицейской слежке за передовой молодежью. Достоевский же ищет с ней идейных контактов. Разумеется, он не поступается своими взглядами, не скрывает, что революционный путь для него неприемлем. Но чистота устремлений массы "молодого поколения" для Достоевского очевидна, Он хочет спорить с этой молодежью и переубедить ее. Однако спор, разумеется, возможен только между людьми, которые понимают друг друга. И "Дневник писателя" призван убедить молодого читателя, что такое взаимопонимание возможно, что он будет спорить, понимая и уважая своих оппонентов.
В первой же после вступления главе "Дневника" "Старые люди" Достоевский обращается к дорогим для молодежи именам Белинского и Герцена. В освещении их фигур еще вполне чувствуется то недоброжелательство, с которым Достоевский нередко говорит о них в письмах на рубеже десятилетий (как и в письмах, оно проявляется в большей степени по отношению к Белинскому и в меньшей - к Герцену). Однако он говорит и о "восторженном" нетерпении Белинского, который "очень грустил", "почему не сегодня, почему не завтра"? Автор не называл того, чего ждал Белинский, но, разумеется, любой читатель понимал, что речь идет о революции. Он говорит и о духовной широте и интеллектуальной глубине Герцена. И как ни хочет мемуарист своими скептическими комментариями притушить яркий блеск им же выведенных фигур, это ему удается плохо. Создается даже впечатление, что автор - может быть, даже втайне от себя - вывел эти фигуры не столько для того, чтобы спорить с ними, сколько, чтоб напомнить о своей былой близости к ним.
Через главу Достоевский вспоминает о Чернышевском, чье имя было в ту пору почти запретным. Чернышевский только что переведен с каторги в ссылку в наглухо отрезанную от мира промерзлую дыру - приполярный Вилюйск. В глазах всей реакции - это враг номер один, не заслуживающий ничего, кроме грубейшей брани. Между тем, редактор "Гражданина" печатно говорит вещь невероятную: "Я... искренне сожалел и сожалею о его несчастий". Он подчеркивает: "Можно очень уважать человека, расходясь с ним во мнениях радикально".
Написана глава эта с целью "опровергнуть клевету" о том, что в давнем рассказе Достоевского "Крокодил" якобы дана этакая комическая аллегория истории ареста Чернышевского. "Значит, предположили, что я, сам бывший ссыльный и каторжный, обрадовался ссылке другого несчастного; мало того - написал на этот случай радостный пашквиль". В этих объяснениях Федор Михайлович был абсолютно искренен - сохранившиеся черновые материалы к "Крокодилу" показывают, что создавая рассказ, писатель о Чернышевском не вспоминал. Но надо думать, что вместе с тем Достоевским руководило и желание показать молодежи, что между ним и вождем революционно-демократического лагеря, несмотря на самые серьезные идейные разногласия, существовало взаимное уважение, какая-то если не мировоззренческая, то нравственная общность (оба, хотя и в разные эпохи, пострадали за свои убеждения, стали "несчастными").
Сама работа писателя над "Дневником", проясняя для его автора сложные явления современности, способствовала его идейной эволюции, его движению навстречу передовым слоям общества. Разумеется, это движение не было прямолинейным, однако к концу года редакторства Достоевский, несомненно, идейно уже не совсем тот, каким он был в его начале.
После августа Федор Михайлович прекращает публикацию "Дневника писателя", видимо, окончательно убедившись в неуместности этой глубоко личной исповеди и проповеди в чужом издании. Но к концу года, уже твердо решив покинуть "Гражданина", Достоевский публикует последнюю главу "Дневника" - "Одна из современных фальшей", явно адресованную в первую очередь именно передовой молодежи. В ней писатель прямо напоминает юношам и девушкам семидесятых годов из революционного лагеря, что он сам в молодости был революционером и революционером убежденным и что он вовсе не предает анафеме свои былые убеждения. Изменил же он их потому, что, столкнувшись напрямую с народной жизнью, понял их несовременность, нереальность, несостоятельность в нынешних исторических условиях.
Впрочем, на этой стороне Достоевский не останавливается.
Поводом - внешним - для написания этой статьи послужило утверждение реакционной газеты "Русский мир", что прийти в революционное подполье может лишь худшая часть молодежи - "праздная, недоразвитая и вовсе не учащаяся". Достоевский видит в таком утверждении грубую фальшь и в опровержение ее ссылается, прежде всего, на собственный опыт: "...я сам старый "нечаевец", я тоже стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни, и уверяю вас, что стоял в компании людей образованных. Нет-с, нечаевцы не всегда бывают из одних только лентяев, совсем ничему не учившихся".
Писатель говорит о привлекательности революционных идей именно для лучшей части молодежи, для тех, кто задумывается о людских страданиях, о несправедливости, говорит о том, что революционное насилие в глазах таких молодых людей легко оправдывается морально: "Но позвольте мне про себя одного сказать: Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем, не ручаюсь, может и мог бы..." "...почему же вы думаете, что даже убийство а 1а Нечаев остановило бы если не всех, конечно, то по крайней мере некоторых из нас в то горячее время, среди захватывающих тогдашних европейских событий..."
Перенесясь мысленно на четверть века назад, в атмосферу пятниц Петрашевского и того тайного кружка - наиболее левого и решительного среди петрашевцев, который возглавлял Спешнев и в который входил сам Достоевский, писатель, возможно, неожиданно для себя вдруг заговорил о своем прошлом революционера не с сожалением, а с подлинной гордостью:
"Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Без сомнения, я не могу свидетельствовать обо всех, но я думаю, что не ошибусь, сказав, что тогда, в ту минуту, если не всякий, то по крайней мере чрезвычайное большинство из нас почло бы за бесчестье отречься от своих убеждений... Приговор к смертной казни расстрелянием, прочитанный нам всем предварительно, прочитан был вовсе не в шутку; почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен, и вынесли, по крайней мере, десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты некоторые из нас (я знаю положительно), инстинктивно углубляясь в себя и проверяя мгновенно всю свою, столь юную еще жизнь, может быть, и раскаивались в иных тяжких делах своих (из тех, которые у каждого человека лежат втайне на совести); но то дело, за которое нас судили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только не требующими раскаянья, но даже чем- то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится! И так продолжалось долго. Не годы ссылки, не страдания сломили нас. Напротив, ничто не сломило нас, и наши убеждения лишь поддерживали наш дух сознанием исполненного долга".
Если Федор Михайлович полагал, что эта проникнутая высоким пафосом речь может отвлечь горячую молодежь от своих убеждений, заставить усомниться в призвании революционера, то приходится признать, что он заблуждался самым странным образом.
Был один пункт, который, по мнению Достоевского, сближал его с новым, "посленечаевским" поколением молодых русских социалистов.
Начиная "Дневник" 1873 г., Достоевский исходил из мысли, которую он четко сформулировал в февральском письме к М. П. Погодину: "Моя идея в том, что социализм и христианство - антитезы". Позже редактор "Гражданина" собирался полемизировать с Михайловским, указавшим ему, что социализм вовсе не обязательно и не всегда является атеистическим (оба оппонента, разумеется, говорили об утопическом социализме - о научном социализме Маркса Достоевский так и не узнал, а Михайловский позднее воевал с марксизмом). Однако полемика по-настоящему не состоялась - надо думать, отчасти и потому, что названная антитеза в сознании писателя стала постепенно сниматься. В силу этого к концу жизни Федор Михайлович, не меняя основ своего мировоззрения, мог называть себя "русским социалистом". Антитеза же снималась, в частности, под влиянием некоторых сторон народнического движения семидесятых годов, ставших писателю известными.
Нечаевское дело резко заострило внимание передовой молодежи к вопросам нравственности революционера. Нечаевский аморализм был беспощадно осужден подавляющим большинством этой молодежи. Это вызвало толчок маятника в противоположную сторону. При всем преклонении перед Чернышеским, о "разумном эгоизме" старались не вспоминать. В среде этой молодежи господствующими стали настроения альтруизма, самоотверженности, даже жертвенности. Несколько позже, обращаясь именно к этой среде, Н. К. Михайловский писал в "Письмах о правде и неправде": "Помните, как Рахметов ложился на кровать, утыканную гвоздями. Надо правду сказать, это - довольно неудачный, неумелый образ, но в нем есть правда, и вы должны это хорошо знать. Вам, конечно, не раз случалось или лично испытывать или близко около себя видеть не только совершенно сознательное отречение от наслаждений, но и прямой позыв к страданию, хотя и не в такой нескладной и утрированной форме, как лежание на гвоздях. Вы урезываете свой бюджет наслаждений, прямо ищете лишений и делаете это, заметьте, совсем без мысли о славе или какой-нибудь награде со стороны".
Нет ничего удивительного, что такие настроения вызвали у некоторой части народнической молодежи своего рода рецидив идей "христианского социализма" и глубокий интерес к образу Христа, к его морали (разумеется, вся церковно-догматическая сторона христианства народникам-социалистам была чужда совершенно). И здесь возникла близость к тому восприятию Христа, которая была присуща утопическим социалистам 30-40-х годов и влияние которого испытал и Достоевский.
Л. Комарович в работе "Юность Достоевского" так характеризовал это восприятие: "Христос приходил восстановить человека в его прирожденной красоте и силе, исполнить волю бога-отца и даровать счастье его детям, вернув им отнятый рай здесь, на земле; так исчезает мистический смысл и красота Голгофы... и заменяется восторженной жалостью перед непонятым, напрасно казненным героем-человеколюбцем; кровь и страдания Христа - не утверждение христианства, но гибель, временное крушение дела земного устройства человечества, ради которого и приходил якобы Христос; дело Христово нуждается поэтому в продолжении, в помощи новых избранников, и утописты охотно сравнивают и сопоставляют с ним других "друзей человечества" (Магомета, Ньютона, самих себя)".
Социализм народников, разумеется, был тоже утопическим, и в возрождении у некоторой части народнической молодежи схожих взглядов нет ничего удивительного.
Вот воспоминания двух известных народников о поре начала семидесятых.
В. Берви-Флеровский: "У меня постоянно было в уме сравнение между готовящейся к действию молодежи и первыми христианами".
О. Аптекман: "Я видел не раз, как молодежь, отправлявшаяся уже не раз в народ, читала евангелие и горько рыдала над ним".
Он же вспоминает, что на даче руководителя одного из ведущих подпольных кружков того периода Долгушина, в доме, где размещалась нелегальная типография, на полке стоял крест с двумя надписями! "Во имя Христа" и "Свобода, равенство, братство".
Достоевский узнал об этих настроениях, узнал о долгушинском кресте (долгушенцев он изобразил в "Подростке") и увидел во всем этом нечто близкое к своим взглядам.
Редактор "Гражданина" не смог превратить журнал в такой орган, о котором он мечтал, не только из-за идейных разногласий с издателем и сотрудниками, но также из-за постоянного нажима цензуры.
В том году засуха в Поволжье, в Самарской губернии особенно, привела к неурожаю и сильнейшему голоду. Общественность была сильно возбуждена, царская администрация же озаботилась преимущественно не организацией помощи голодающим, а тем, чтобы приуменьшить в глазах страны и мира размеры бедствия. За опубликованную в "Гражданине" статью "О голоде" на журнал обрушились кары. Цензура нашла, что в статье содержится критика правительства и даже некоторые, так сказать, конституционные мечтания. В качестве репрессивной меры последовало запрещение розничной продажи еженедельника в Петербурге и Москве. Это больно било по редакционной кассе: именно в столицах значительная часть читателей журнала являлась не подписчиками, а разовыми покупателями. Но главное заключалось в том, что "Гражданин" лишался возможности высказываться по больному вопросу, волновавшему общество. Достоевского это очень тяготило.
4 января 1874 г. Достоевский возвращает рукопись новой статьи о голоде ее автору О Ф. Миллеру, своему будущему биографу, объясняя это тем, что его "как редактора призывали на днях в Цензурн. Комитет и внушали, что про голод хотя и можно писать и печатать сообщенные факты, но без тенденциозности в известную сторону".
О. Ф. Миллер ответил редактору "Гражданина" резкой отповедью: он уже говорил редакторам либеральных изданий, что Достоевский оказался смелее их, на самом же деле все печатные органы, независимо от направления, одинаково трусливы и молчат, когда люди гибнут от голода. Часто очень обидчивый, Федор Михайлович на этот раз не рассердился, понимая правоту Миллера. Его резкое письмо не помешало их будущему сближению. (Когда Миллер в конце 70-х гг оказался в тяжелом материальном положении, Достоевский втайне от жены посылал ему ежемесячно по 100 руб.).
Бывали и еще осложнения с цензурой, но особенная неприятность ожидала журнал в марте 1874 г., когда Федор Михайлович уже твердо решил с ним расстаться. На этот раз опалу вызвала статья "Два слова по поводу мнения князя Бисмарка о русских немцах", где содержалась весьма нелестная оценка лифляндского немецкого дворянства. Статья вызвала раздражение самого царя - лифляндские бароны считались одной из опор трона. За "высказанные в самых резких выражениях совершенно превратные суждения" "Гражданин" получил первое предупреждение. Третье предупреждение автоматически влекло за собой запрещение журнала.
Несомненно, Мещерский не был удивлен, когда Федор Михайлович сообщил ему о своей отставке. Но время до утверждения нового редактора - не такое уж короткое - Достоевскому еще пришлось заниматься журналом. Преемником его на редакторском посту должен был стать В. Ф. Пуцыкович, с марта прошлого - семьдесят третьего года секретарь редакции. Федор Михайлович относился к нему, в общем, неплохо, но считал человеком без царя в голове. Но, возможно, такой редактор больше подходил для журнала Мещерского (у Пуцыковича-то с князем конфликтов по идейным вопросам возникнуть, понятно, не могло).
Достоевскому еще предстояло отсидеть свои два дня за прежние редакторские пригрешения.
Федор Михайлович уже давно жаловался жене на тяготы своего редакторства. В письмах его к ней постоянно повторялось еще летом: "Я стал просто ненавидеть "Гражданин" за то, что он требует так много работы. Эх, лучше бы от него отвязаться", "редактирую просто как каторжный", "у меня сто мелких глупостей по журналу, о которых я должен помнить поминутно". Нет сомнений, что, покидая журнал, Достоевский испытывал чувство облегчения. Вс. Соловьев в своем мемуарном очерке употребляет такое выражение: "Он выдержал год своего редакторства".
Но, разумеется, Федор Михайлович не считал этот "год редакторства" потерянным временем (да у него никогда в жизни периодов потерянного времени не было), Редакторство помогло ему лучше понять текущую действительность в ее повседневных вопросах и заботах, в ее конкретных деталях. Это являлось необходимым для новой большой художественной работы. Достоевский обдумывал замысел "Подростка".
С начала 1873 по май 1874 года супруги снимали квартиру на углу Лиговки и Гусева переулка на втором этаже дома Сливчанского. В "Воспоминаниях" А. Г. Достоевская говорит: "Выбор квартиры был очень неудачен". К сожалению, удачный выбор Достоевским сделать было весьма трудно.
Вс. Соловьев вспоминает: "На моих глазах, в эти последние восемь лет, он переменил несколько квартир, и все они были одна мрачнее другой, и всегда у него была неудобная комната, в которой негде было повернуться". Сын знаменитого профессора Московского университета, никогда нужды не знавший, Вс. Соловьев рассказывает об этом так, будто Федор Михайлович поселялся именно в подобных квартирах из-за эксцентричности вкуса. М. А. Александров, рабочий человек, также отмечая, что Достоевский всегда выбирал для жилья старые дома, объясняет это проще: "Федору Михайловичу нужна была настолько объемистая квартира, что наем таковой в новом комфортабельном доме не согласовывался с его средствами..."
Зимой семьдесят третьего года Достоевскому нужно было жить по возможности ближе к типографии Траншеля, размещавшейся в доме на углу Невского проспекта и Владимирской улицы. Квартиры в этом районе были дорогими, поневоле пришлось нанимать на Лиговке. Здесь они сдавались дешевле по причинам вполне понятным.
К середине столетия на Лиговской улице появились заводы и фабрики. С самого раннего утра - часов с четырех - от них к Николаевскому вокзалу начинали двигаться тяжело груженные подводы, грохотавшие по булыжной мостовой. Подальше от вокзала - но не очень Далеко - один за другим выстроились десятки извозчичьих и постоялых дворов, ночлежек, просто притонов. Одних кабаков на улице насчитывалось полсотни. Впечатление дополнял Лиговский канал - узкая протока с водой мутной и зловонной.
Окна снятой в доме графа Сливчанского квартиры -выходили на улицу - и, можно представить, как мешал шум Федору Михайловичу, как трудно было ему, ложившемуся в постель уже утром, заснуть и выспаться.
Но кроме внешних неудобств жить мешал и "беспокойный характер хозяина" дома. "Это был старичок Очень своеобразный, с разными причудами, которые причиняли и Федору Михайловичу, и мне большие огорчения",- вспоминает Анна Григорьевна, "Сливчанский - это какой-то помешанный (я серьезно так думаю)",- писал Достоевский жене. Домохозяин, постоянно шнырявший по всем этажам, подслушивавший, во все вмешивавшийся, изводил писателя бессмысленными придирками, преследовал его прислугу, запрещал оставлять ключи у дворника и т. д.
И несмотря на это Достоевские все же прожили у полусумасшедшего хозяина полтора года - переехать возможности так и не нашлось, хотя Федор Михайлович ходил по сдававшимся квартирам и чертил в письмах к жене планы их расположения. Средств все так же не хватало. Долги кредиторам постепенно, хотя и медленно гасились, но друзьям и знакомым, у которых тоже были взяты деньги, Федор Михайлович часто не мог вернуть годами, и это его сильно мучило.
В июне Достоевский сообщает жене: "Был у Кашпиревых дня три тому назад. Его нога хуже, а Соф. Сергеевна в тот день, получив взаймы откуда-то 220 р., потеряла их в Гостинном дворе, так что дома у них ни гроша. И все это правда. Деньги же 220 р. предназначались на уплату процентов за долг в 2000 одному кулаку, которому они уже три года уплатить не могут. Софья Cepна при мне плакала, жалея потерянные деньги. Действительно, их положение ужасное, и хоть они принимали меня донельзя радушно, но представь мое-то положение - сидеть и видеть ее слезы и знать, что должен им 400 руб".
Федора Михайловича огорчает, что его жена почти не видит людей, не имеет никаких развлечений. По его настоянию Анна Григорьевна приобрела на зиму 73- 74-го абонемент в Итальянскую оперу. Однако жена знаменитого русского писателя могла позволить себе лишь место на галерке. "Мое место было... прямо против громадной люстры, и я видела лишь то, что происходило на правой стороне сцены, а иногда лишь одни ноги, и я иногда допрашивала мою соседку: "А кто это в ярко-желтых ботфортах или в розовых ботинках?" Но неудобное место не мешало мне наслаждаться очаровательными голосами артистов. За детей я не беспокоилась, потому что Федор Михайлович в те вечера не уходил из дому и при каждом шорохе или плаче ребенка тотчас шел узнавать о том, не случилось ли чего дурного".
Детей Достоевский любил сильно и тревожно, как это нередко бывает при позднем отцовстве, В разлуке ему постоянно чудятся и снятся всякие беды с ними, он постоянно торопит жену с ответом - не случилось ли чего с детьми (он склонен верить снам, убежден, когда он видит во сне отца,- а снится ему Михаил Андреевич обычно в момент своей гибели,- это к несчастью).
Из его четверых детей двое - первая дочь и второй сын - умерли в раннем детстве.
Анна Григорьевна свидетельствует: "Федор Михайлович чрезвычайно нежный отец, постоянно думал, чем бы потешить своих деток. Особенно он заботился об устройстве елки: непременно требовал, чтобы я покупала большую и ветвистую, сам украшал ее (украшения переходили из года в год), влезал на табуреты, вставляя верхние свечки и утверждая звезду".
Вместе с тем, времени систематически заниматься повседневным воспитанием детей, видимо, не хватало не только у отца, но и у матери. Подруга Анны Григорьевны со школьных лет М. Н. Стоюнина, известный педагог, владелица частной гимназии, утверждает: "Достоевская была так поглощена материальными делами семьи и мужа, что даже обязанности матери часто не выполняются ею: воспитание детей заброшено; их рубашоночки в дырочках, головки запущены. Да и вообще весь семейный уклад Достоевского был какой-то неустойчивый, безалаберный. Сам Федор Михайлович баловал детей и, когда поправлялись его денежные дела, ему особенное удовольствие доставляло привозить им лакомые, нередко изысканные угощения, но заниматься воспитанием и развитием детей у обоих не было ни времени, ни умения. Самая болезненность детей объясняется отчасти частым кормлением их острыми маринадами, пряностями и пресыщением сладким..."
С этим свидетельством нельзя не считаться. Но надо, конечно, учесть и то, что, во-первых, в нем чувствуется несколько брюзгливый педантизм классной дамы по призванию, а, во-вторых, известно: никто не может так наговорить на женщину, как ее ближайшая подруга.
Сам Федор Михайлович в эту зиму кроме старых знакомых бывает еще в салоне графини Ю. Д. Засецкой, дочери Дениса Давыдова, много занимающейся филантропией.
У Достоевских же, видимо, в связи с сильной занятостью Федора Михайловича гости в эту зиму бывали редко, реже, чем в предыдущую. По делам типографии часто приходил М. А. Александров, появлялся брат Николай, брал тройку или пятерку. Он донашивал сапоги брата, дома у него порой не бывало и полушки. Он присылал брату жалкие записки: "Третий день формально я не имею крохи во рту. Черного хлеба и то не было. Про чай и сахар говорить нечего". Тем не менее этого опустившегося, но не озлобившегося мягкого и жалкого человека Федор Михайлович не переставал любить. Рассердившись на петербургскую родню, восклицал: "Дрянь людишки, дрянь, кроме Коли".
Показывался и Павел Исаев - гость для Анны Григорьевны крайне нежелательный. Когда вскоре после возвращения Достоевских из-за границы, он выразил было желание жить вместе с отчимом, мачеха отчитала его, как могла:
"- Разве вы рассчитываете жить с нами вместе?- изумилась я его наглости.
...Тут мне пришлось поговорить с ним серьезно и доказать, что обстоятельства теперь переменились..."
Впрочем, Анна Григорьевна, естественно, никогда не воспринимала Павла Исаева, почти ровесника, в качестве пасынка, вообще родни. Для нее он всегда нахальный чужак, непонятно почему лезущий в ее дом. ("Не могу забыть, сколько горя и неприятностей причинил мне этот бесцеремонный человек!")
Федор Михайлович порой находит теперь, что Паша "ужасно смешон". Надо думать, Исаев с годами, действительно, лучше не становился, но все же отчим совсем привязанности к нему еще не потерял. "Я люблю его, каков они ни есть",- пишет он С. А. Ивановой, прося повлиять на находившегося тогда в Москве "этого все еще Хлестакова, хотя ...в нем много прекрасных сердечных качеств".
В эту зиму болезнь легких серьезно дает о себе знать. По совету врачей он лечится сжатым воздухом, сидит в барокамере (по тогдашнему - "под колоколом") в лечебнице доктора Симонова. "Лечение сжатым воздухом принесло мужу большую пользу, хотя отнимало от него массу времени, так как разбивало весь его день: приходилось рано вставать, спешить к назначенному часу, ожидать запоздавших пациентов, сидевших вместе с ним под колоколом, и пр. Это все неприятно действовало на настроение мужа".
Лечение было весьма интенсивным: три двухчасовых сеанса в неделю.
Во время сеанса Федор Михайлович, впрочем, обычно читал - радражение проходило.
В феврале в разгар лечения, пришло постановление об аресте Узнав, что сейчас время для Достоевского неподходящее, А Ф. Кони отменил постановление и попросил Федора Михайловича самому назначить срок. В письме к прокурору Достоевский называет "самые первые числа марта". Однако и эта дата была отложена. Околоточный пришел за писателем утром 21 марта. Выяснилось, что отбывать наказание ему предстоит на гауптвахте на Сенной площади. Федор Михайлович ушел, сказав Анне Григорьевне, чтоб она объяснила детям так: папа уехал в Москву за игрушками.
Вскоре Анна Григорьевна отвезла мужу постель. Вообще за двое суток она четырежды побывала на гауптвахте. Приходили туда и А. Н. Майков и Вс. С. Соловьев Остальное время Федор Михайлович перечитывал "Отверженных" Виктора Гюго на французском языке.
Книга была взята у корректора типографии Тимофеевой. Вернувшись с гауптвахты, Достоевский попросил Варвару Васильевну оставить ему этот экземпляр на память, обещая купить взамен другой (книга принадлежала не Тимофеевой, она сама брала ее почитать; когда она передала просьбу писателя владельцу книги - М. А. Кавосу,- тот, разумеется, подарил ее Достоевскому).
Этот маленький эпизод достаточно ясно говорит о том, что для Федора Михайловича новое его "заключение" оказалось событием памятным и знаменательным. Представляется очевидным, что не само по себе, а как живое напоминание о давнем уже заключении - о годах каторги и солдатчины. Возможно, что Достоевский думал о том, что жизнь казахской степи, с которой солдат-писатель познакомился в семипалатинские свои годы, оказалась косвенно причастна к истории его нового ареста. Во всяком случае, гауптвахта всколыхнула воспоминания Федора Михайловича о его казахстанской эпохе. Через Несколько месяцев в этом же году в подготовительных материалах к "Подростку" появляется известная запись о Ч. Ч. Валиханове: "Страшное простодушие, Валиханов, обаяние".
Воспоминание о первом знакомстве с казахстанской степью всегда Вызывало у Федора Михайловича ощущение приподнятости, праздничности. Через три года в "Дневнике писателя" он сам сказал об этом, припомнив те дни: "...тогда надо мной сияло степное солнце, начиналась весна, а с ней совсем новая жизнь, конец каторги, свобода!"
С гауптвахты Достоевский вышел в очень приподнятом настроении. По пути домой он купил в магазине игрушки, и дети радостно встретили отца, "вернувшегося из Москвы". А в сумрачном Петербурге начиналась весна.
Интересно, знал ли Федор Михайлович, что великая степь, очевидно, родина его дальних предков? М. В. Волоцкий в известном труде "Хроника рода Достоевских" пишет: "...предков Достоевских ...по всей вероятности, следует искать до 1389 г. среди татарских мурз Золотой Орды. Около 1389 г. происходит переселение Аслана-Челеби-мурзы, родоначальника ветви, идущей к Достоевским, на территорию Московского государства. Великий князь Московский жалует ему в кормление Кременск (в 20 верстах от Боровска)... В последующих поколениях одна из ветвей потомства Аслана-Челеби-мурзы получает фамилию Иртищей или Ртищей, Артищей и т. п. (по разным транскрипциям)... После того, как в 1506 г. Данила Иванович Иртищ получает в свое владение... часть села Достоева (близ Пинска), за его потомками упрочивается фамилия Достоевских".
15 апреля 1874 года вышел в свет последний, подписанный Федором Михайловичем номер "Гражданина". В следующем, 16-м номере журнала (дата выхода - 22 апреля) появилось редакционное сообщение: "Ф. М. Достоевский, по расстроенному здоровью, принужден, не оставляя по возможности своего постоянного участия в "Гражданине", сложить с себя обязанности редактора журнала".
Примерно в те же дни в квартиру Достоевского пришел Николай Алексеевич Некрасов и предложил на очень выгодных условиях отдать новый роман в "Отечественные записки".
Конечно, приход редактора влиятельнейшего органа революционо-демократического лагеря к писателю, который в глазах многих либеральных современников в то время "запятнал" себя "антинигилистическим" романом и редактированием консервативного издания, не мог быть случайным.
Он и не был ни случайным, ни неожиданным для Достоевского (не верится, чтобы Федор Михайлович скрывал от жены, что ждет чего-нибудь подобного. Однако в "Воспоминаниях" Анна Григорьевна изображает визит Некрасова как полную неожиданность для себя. Одно из двух: или Федор Михайлович не был уверен до конца и потому все-таки помалкивал, или мемуаристке в данном случае изменила память).
О Некрасове Достоевский еще при жизни поэта сказал в "Дневнике писателя" 1877 года: "... прожили мы всю жизнь врознь" Но тут же сказал и то, что лучшие впечатления его молодости, даже "самая восхитительная минута во всей ... жизни" связаны с Некрасовым и что забыть он этого никогда не сможет.
Федор Михайлович вспоминал здесь о том, как совсем молодые Некрасов и Григорович, прочитав рукопись "Бедных людей", светлой майской ночью прибежали к тоже совсем молодому автору выразить свой восторг: "Что ж такое, что спит, мы разбудим его, это выше сна!" И о том, как Некрасов привел его к учителю, к Белинскому ("он благоговел перед Белинским и, кажется, всех больше любил его во всю жизнь")...
С Некрасовым у Федора Михайловича было связано воспоминание о счастливом своем литераторском начале, о своем писательском рождении, и это ставило для него Николая Алексеевича в особое положение, хотя, как он сам там же говорит, "бывали между нами и недоумения".
Их можно насчитать довольно много. Еще до окончательного разрыва между Белинским и Достоевским Некрасов, несомненно, был уже весьма настроен против Достоевского, который и после перехода "Современника" в некрасовские руки остался, в основном, автором соперничающих "Отечественных записок". Позже Некрасов начал писать весьма язвительную сатирическую повесть о молодом Достоевском, но не кончил и не опубликовал.
Когда вчерашний каторжник получил возможность печататься, Некрасов передавал ему привет и просьбу присылать рукописи. Но "Село Степанчиково" главе "Современника" не понравилось, он решил, что "Достоевский исписался" и уклонился от печатания. Один мемуарист (П. Ковалевский) находил, что это была единственная за жизнь Николая Алексеевича его редакторская ошибка, но зато ошибка очень серьезная. Действительно, напечатай "Современник" повесть о Фоме, может, многое пошло бы по другим рельсам. Ведь Достоевский хотел и "Мертвый дом" предложить "Современнику".
Впрочем, Некрасов напечатал во "Времени" братьев Достоевских "Крестьянских детей" и "Смерть Прокла".
Потом была яростная полемика между их журналами.
Потом...
В одной из глав "Дневника писателя" в "Гражданине" Федор Михайлович, не называя имени Некрасова, приводит разговор с ним, относящийся к первым месяцам 1866 г.
"- Ну, вот мы вас обругали,- сказал он мне (то есть в его журнале за "Преступление и наказание").
- Знаю,- сказал я.
- А знаете, почему?
- По принципу, должно быть.
- За Чернышевского.
Я остолбенел от удивления.
- NÑ, который написал критическую статью,- продолжал издатель, - сказал мне так: "Роман его хорош, но так как он в своей повести, два года назад,* не постыдился надругаться над несчастным ссыльным и окарикатурить его, то я его роман обругаю".
* (На самом деле - год назад, в 1865 году.)
Далее Достоевский опровергает - как уже говорилось, совершенно искренне - эту давнюю клевету, связанную с повестью "Крокодил". Сейчас речь не о том, а о другом - сколько подводных камней (часть из них нам наверняка неизвестна) легло между двумя людьми, когда-то пережившими ту "восхитительную минуту".
В "Дневнике" Достоевский не раз упрекал поэта Некрасова в "мундирности" - дескать, неснимаемый либеральный мундир мешает ему держаться естественно.
И вместе с тем, когда Федор Михайлович цитирует некрасовские строки, у него вырывается: "Чудо, чудо, как хорошо!" Их автор для него "один из самых страстных, мрачных и "страдающих" наших поэтов". Никогда, даже в момент наибольшего своего отдаления от Некрасова, Достоевский не отрицал огромного значения его поэзии в целом, как это делал, например, порвав с "Современником", Тургенев.
И Некрасов счел возможным и естественным обратиться к Достоевскому, еще только развязавшемуся с "Гражданином", с предложением сотрудничества. Разумеется, это не могло быть его единоличным решением, Многое указывает: несмотря на "Бесов" и редактирование журнала Мещерского, редакция "Отечественных записок" смотрела тогда на Достоевского как на возможного и желательного союзника.
А первый шаг к практическому налаживанию сотрудничества с журналом Некрасова сделал все же сам Федор Михайлович. Он знал, что В. В. Тимофеева своя в кругу литераторов "Отечественных записок". "Я узнала тогда от него, что он пишет большой роман с героем в образе "ростовщика, который мстит этим обществу..." И однажды он попросил меня даже узнать "как-нибудь" у знакомых мне сотрудников "Отечественных записок", найдется ли для такого романа свободное место в их журнале в будущем году".
Редакция "Отечественных записок" состояла из трех человек - Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова, Г. З. Елисеева. Большое влияние на политику журнала уже имел Н. К. Михайловский, затем, после смерти Некрасова, вошедший в число редакторов. Больше всех с журнальной молодежью - не только в редакции, но и "по-бытовому" - общался Григорий Захарович Елисеев, единственный из участников "консистории" "Современника", перешедший в "Отечественные записки".
На одной из вечеринок этой молодежи, пришедший на нее Г. З. Елисеев, увидев Тимофееву, спросил ее - он знал, что девушка работает корректором типографии, где издается журнал Мещерского:
- Ну, что поделывает ваш Достоевский? Все с "Гражданином" нянчится?..
"Узнав, что Федор Михайлович пишет новый роман, Григорий Захарович сказал мне самым доброжелательным голосом:
- Пусть, пусть присылает. Место для него у нас всегда найдется".
Этот ответ тем более показателен, что Елисеев и был тот NÑ, который так резко и несправедливо отозвался о "Преступлении и наказании" в "Современнике" (в февральском и мартовском номерах за 1866 г.)
Вполне вероятно, что резкость этих отзывов Елисеева, действительно могла хоть отчасти объясниться обидой за Чернышевского, близким соратником которого был ведущий публицист "Современника", а затем "Отечественных записок". И очень возможно, что на изменение отношения Елисеева к Достоевскому повлияла глава "Дневника писателя", разъяснившая историю с "Крокодилом" и делавшая обиду на Федора Михайловича "за Чернышевского" невозможной - во всяком случае, для того, кто поверил автору "Дневника".
Я думаю, что Елисеев поверил. У него не было предвзятости по отношению к Достоевскому. Наоборот, это отношение можно охарактеризовать, как все усиливающийся доброжелательный интерес к нему, на который Федор Михайлович не очень-то был склонен отвечать взаимностью. Встретившись с Елисеевым и женой на курорте в Эмсе в 1876 г., Достоевский жалуется в письмах к Анне Григорьевне, что они к нему "лезут", и отзывается о них в лучшем случае иронически ("ужасно странные люди, она же пресмешная нигиляшка, хотя и из умеренных").
В тексте "Братьев Карамазовых" есть очень резкие и не очень замаскированные выпады против Елисеева.
Вероятно, они задели старого журналиста, к тому времени из-за болезни почти не принимавшего участия в редакционной работе (ряд лет он являлся, так сказать, почетным пенсионером "Отечественных записок"), но и это не сказалось на характере его внимания к писателю. Интересен в этом плане его отзыв об известной статье Н. К. Михайловского в письме к М. Е. Салтыкову-Щедрину: "Жестокий талант" представляет прекрасную характеристику писаний Достоевского и в качестве таковой читается с удовольствием, но объяснение жестокости таланта представляется весьма неправдоподобным".
Михайловский в своей статье игнорировал социальное происхождение "жестокости" произведений писателя, с огромной силой раскрывавших жестокость неправого мира. Это умолчание и делает объяснение критика "неправдоподбным", и Елисеев уловил это.
С годами сподвижник Чернышевского отходил от революционных позиций, на которых стоял в начале 60-х годов. Он находил теперь в своих взглядах много близкого со взглядами Достоевского, и это сказалось на его итоговой оценке значения деятельности писателя, данной им в письме к Салтыкову:
"Я только теперь узнал Достоевского. Это была живая, на все отзывчивая душа. Его пытливая мысль была в вечном напряжении, никогда не знала покоя. По неугомонной деятельности его мысли и его впечатлительности я могу сравнить его только с Вами. Как жаль, что эта мысль случайно направилась в другую сторону... А ведь он с начала своего писательства был на другой стороне. И надобно было много усилий, чтобы свернуть его отсюда. Только посредством бога могли его свернуть отсюда. Точно мы против бога?! Да и внутренне никогда не свернул окончательно".
Елисеев, разумеется, передал разговор с Тимофеевой Некрасову. Этим и объясняется появление руководителя "Отечественных записок" в квартире Достоевского "в одно апрельское утро, часов в двенадцать".
Анна Григорьевна вспоминает: "Любопытство мое было так велико, что я не выдержала и стала за дверью, которая вела из кабинета в столовую. К большой моей радости, я услышала, что Некрасов приглашает мужа в сотрудники, просит дать для "Отечественных записок" роман на следующий год и предлагает цену по двести пятьдесят рублей с листа, тогда как Федор Михайлович до сих пор получал по ста пятидесяти".
Федор Михайлович ответил, что он должен сначала посоветоваться с Катковым и с женой.
Насчет Каткова Некрасов ничего не сказал. Конечно, по законам журнальной этики Достоевский должен был поставить в известность о таком предложении редактора издания, где он напечатал три предыдущих романа. Но оба собеседника знали, что в данном случае просто соблюдается формальность. И Некрасову, и Достоевскому было известно, что "Русский вестник" собирается приобрести будущий роман Льва Толстого и, следовательно, Катков не заинтересован в новых приобретениях, обозначающих новые траты,- максимально возможное число подписчиков уже обеспечено.
Но желание посоветоваться с женой вызвало у Некрасова реплику не без яда: "Вот уж никак не мог предположить, что вы находитесь "под башмачком" Вашей супруги". Сам Николай Алексеевич вряд ли когда-нибудь советовался о чем-нибудь серьезном с близкими женщинами. Разве с Авдотьей Панаевой - в самые первые их годы...
Но и с женой советоваться долго не пришлось: не успел Федор Михайлович раскрыть рта, как она его перебила: "Соглашайся, Федя, соглашайся немедленно".
"- Так ты подслушивала? Ну, как тебе, Анечка, не стыдно,- горестно воскликнул Федор Михайлович".
Она ему наскоро объяснила, что "ничего не стыдно", и отправила назад к Некрасову. Ее радость была понятна: после ухода мужа из "Гражданина" семья оставалась без денег, сколько бы пришлось еще хлопотать с устройством будущего романа, а тут все решалось разом.
Конечно, не надо думать, что Федор Михайлович стал искать контакта с "Отечественными записками" лишь потому, что "Русский вестник" оказался "занят". Ему и без этого хотелось опубликовать роман в журнале, наиболее авторитетном в передовых слоях общества, особенно среди передовой молодежи, показать, что он не чужак и тем более - не враг. Это была определенная демонстрация общественной позиции.
Федор Михайлович решил, что проще и быстрее будет не тратить времени на переписку с "Русским вестником", а самому съездить в Москву. В результате поездки он почти не сомневался. В день приезда он пишет Анне Григорьевне: "Завтра, твердо уверен, окончу дела (т. е. получением отказа) и как можно поскорее вернусь".
Так и вышло, хотя и не "завтра" - Катков захотел еще посоветоваться со своим первым помощником по журналу П. М. Леонтьевым. Посоветовавшись, согласился на повышение гонорарной ставки до 250 р. за лист, но в авансе отказал. Это было, понятно, и окончательным отказом: Катков ведь хорошо знал, что Достоевскому без аванса не на что жить.
Федор Михайлович вернулся в Петербург и сообщил Некрасову, что его новый роман будет печататься в "Отечественных записках".
© F-M-Dostoyevsky.ru, 2013-2018
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://f-m-dostoyevsky.ru/ "Фёдор Михайлович Достоевский"
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://f-m-dostoyevsky.ru/ "Фёдор Михайлович Достоевский"
