


Глава II. Иван Петрович
1. Голос рассказчика
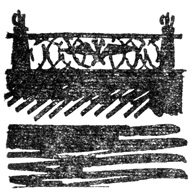
Но долго еще нам придется ждать ответа на все возникшие вопросы: рассказчик как будто забудет об умершем старике Смите; целых восемь глав он будет повествовать совсем о других событиях, других людях; мы успеем заинтересоваться, даже увлечься их заботами, их жизнью, когда, наконец, начнет проясняться тайна старика, станут понятнее его слова о Шестой линии.
Странное, фантастическое, таинственное, бурная смена необыкновенных происшествий - все, что было в первой главе, сменяется в следующих главах неторопливым и грустным повествованием о жизни самого рассказчика.
Но утомительно называть его этим безликим словом - рассказчик. Скоро мы узнаем, что близкие зовут его Ваней, а чужие - Иваном Петровичем; будем и мы называть его так же.
Уже из первой главы мы узнали, что Иван Петрович - писатель. Комната Смита привлекла Ивана Петровича тем, что она хотя и низкая, но большая: "Я же, когда обдумывал свои будущие повести, всегда любил ходить взад и вперед по комнате", - вспоминает Иван Петрович.
Трудно сказать, понимал ли Достоевский, когда писал "Униженных и оскорбленных", что все его привычки станут драгоценны для читателей, что читатели узнают эти привычки, описанные в его первом романе. Вероятнее всего, Достоевский не мог тогда этого предвидеть. Просто он придал Ивану Петровичу некоторые свои черты (скоро мы увидим, что он сделал Ивана Петровича и автором своего первого романа "Бедные люди"). Вот и еще одно признание Ивана Петровича, за которым явственно виден сам Достоевский: "Кстати, мне всегда приятнее было обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деле писать их..." Из писем Достоевского, из воспоминаний о нем мы знаем, что это свойство не придумано автором, оно было у него самого. Писал он тем не менее страшно много - ночами, в самых невообразимых условиях. В эпилоге "Униженных и оскорбленных" мы узнаем, что Иван Петрович написал за два дня и две ночи "три печатных листа с половиною", - а это восемьдесят четыре страницы на машинке.
Так, может быть, Иван Петрович - это и есть сам Достоевский? Может быть, он просто описал себя и то, что произошло с ним? Мы еще не раз увидим, что в Иване Петровиче - много от Достоевского, но, к счастью, жизнь Достоевского сложилась иначе. Иван Петрович вспоминает во второй главе: "В то время, именно год назад, я еще сотрудничал по журналам, писал статейки и твердо верил, что мне удастся написать какую-нибудь большую, хорошую вещь".
Иван Петрович настаивает: события, описанные в романе, происходили "именно год назад". И опять, как в первой главе, говорит о своей болезни, еще более определенно, чем раньше: "... вот засел теперь в больнице и, кажется, скоро умру". В таком случае, рассказчик все-таки не сам Достоевский, который не болел чахоткой и, к счастью, прожил после "Униженных и оскорбленных" долго, написал не одну "большую, хорошую вещь".
Но, может быть, в период работы над "Униженными и оскорбленными" Достоевский чувствовал себя и больным, и даже обреченным, боялся, что не успеет написать все, что хотелось бы ему сказать людям... Может быть, он доверил Ивану Петровичу эти свои чувства, хотя реальная биография Федора Достоевского не имеет ничего общего с жизнью Ивана Петровича.
"Должно полагать, что родители мои были хорошие люди, но оставили меня сиротой еще в детстве, и вырос я в доме Николая Сергеича Ихменева, мелкопоместного помещика, который принял меня из жалости".
Это, собственно, и все, что мы узнаем, потому что фактов Иван Петрович почти не вспоминает, а вспоминает счастье, которое ощущал в детстве, - оно осталось в его памяти счастливым, блаженным временем, когда рядом всегда была она - Наташа Ихменева.
"Тогда на небе было такое ясное, такое непетербургское солнце и так резво, весело бились наши маленькие сердца. Тогда кругом были поля и леса, а не груда мертвых камней, как теперь".
Этот крик отчаяния от того, что "теперь" окружает человека, снова напоминает Гоголя: у него тоже природа, живая и естественная, приносящая человеку счастье, постоянно противостоит Городу, Столице чиновничьей, бездушной империи, каменному темному Петербургу. Все было прекрасно тогда, потому что было "далеко отсюда", "не здесь", не в Петербурге. "Что за чудный был сад и парк... Тогда за каждым кустом, за каждым деревом как будто еще кто-то жил, для нас таинственный и неведомый; сказочный мир сливался с действительным..."
Таинственное было и тогда, но теперь в этом слове скрыт ужас: необыкновенное, таинственное происшествие непременно грозит бедою, потому что происходит в городе, где "груда камней" убивает живую человеческую душу. А в детстве таинственное было сказочным: страшноватым, как все неожиданное, но не страшным, не грозящим бедою, а обещающим неизведанное.
Вот и все, что мы узнаем о детстве Ивана Петровича: тогда было хорошо, прекрасно, счастливо, светло, потому что не было Петербурга и была Наташа, еще ничем не связанная с Петербургом. Позже, уже не так давно, "года два назад", то есть за год до описанных в романе событий, Иван Петрович опять встретил Наташу. Но это было уже в Петербурге, детство кончилось, отец Наташи приехал в Петербург "хлопотать по своей тяжбе", а Иван Петрович "только что выскочил тогда в литераторы".
Холодом, ожиданием беды веет от этих уже не детских, очень взрослых слов: "хлопотать по своей тяжбе". Русская литература много раз показывала нам мелкопоместных помещиков, приезжающих в Петербург хлопотать по тяжбам, - эти люди, как правило, проигрывают свои судебные дела - и по неопытности, и по невозможности дать взятку кому следует... У читателя возникает грустное предчувствие. Да и литературная работа Ивана Петровича снижена, сведена к чему-то низменному словом "выскочил".
© F-M-Dostoyevsky.ru, 2013-2018
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://f-m-dostoyevsky.ru/ "Фёдор Михайлович Достоевский"
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://f-m-dostoyevsky.ru/ "Фёдор Михайлович Достоевский"
